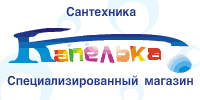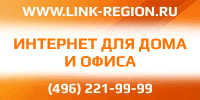...
Октябрь 2006 года
Дело Zakharov v. Russia (Захаров против России):критическое мнение, высказанное в письме, не является основанием для ограничения свободы слова
Основанием для обращения Захарова в Европейский Суд послужили следующие обстоятельства. В июле 2002 г. заявитель в частном порядке написал письмо заместителю губернатора Московской области. В письме он указал, что гражданка В. присвоила себе участок общественной земли в центре г. Икша. В письме Захаров также высказал мнение, что А. - глава г. Икша - не только не защитила права остальных жителей города, но и активно содействовала гражданке В. в приобретении этого участка земли. Так, с подачи главы города был отправлен на пенсию землемер, который возражал против передачи участка, а гражданка В. смогла получить право владения землей. В письме Захаров сообщал:
"Такое возмутительное поведение назначенного (а не избранного) главы городского совета по отношению к жителям - по мнению всех - дискредитирует власти, которые назначили А., и является примером нарушения закона и безнаказанности, показывающим, что можно "договориться" с главой совета. Я прошу Вас высказать свое мнение по поводу антисоциального поведения А., а также помочь нам возвратить землю в общественное пользование, несмотря на ее возражения".
27 сентября 2002 г. А. подала иск против Захарова с требованием опровергнуть изложенную в его письме информацию, и компенсировать ей моральный ущерб. Она утверждала, что письмо заявителя содержало ложные факты и оскорбительные для нее оценки, которые могли нанести вред ее репутации в глазах ее руководителей. Дмитровский городской суд 27 января 2003 г. вынес решение в пользу А., указав, что Захаров не доказал правдивость фактов и оценок, изложенных в его письме. В судебном решении также было указано, что высказывания заявителя не только были ложными, но и оскорбляли А., как представителя власти. Суд обязал заявителя опровергнуть свое письмо и выплатить А. 300 рублей. Заявитель обжаловал решение в Московский областной суд, который 4 марта 2003 г. оставил решение в силе с той же мотивировкой, что и Дмитровский городской суд, но освободил заявителя от обязанности опровергать свое письмо.
В Европейском Суде заявитель утверждал, что было нарушено его право на свободу слова, поскольку он был привлечен к ответственности за высказывание своего мнения о публичной фигуре. Заявитель указывал, что суд первой инстанции привлек его к ответственности, поскольку он не смог доказать правдивость указанных в письме фактов и оценок. Меж тем, при кассационном рассмотрении суд уточнил основания привлечения заявителя к ответственности, среди которых перечислил только три оценочных высказывания заявителя. Государство-ответчик утверждало, что заявитель был привлечен к ответственности на основании ст.152 ГК РФ, поскольку он не смог доказать правдивость своих утверждений.
Рассматривая эту жалобу, Суд отметил согласие сторон с тем, что ограничение свободы слова было осуществлено на основании закона, а именно - ст.152 ГК РФ, и преследовало правомерную цель защиты репутации других лиц. В этой ситуации основная задача Европейского Суда - определить, преследовало ли вмешательство в свободу слова заявителя "насущные социальные нужды" и были ли меры, предпринятые национальными властями, пропорциональными преследуемой цели.
Суд установил, что диффамационный иск был подан в связи с письмом заявителя в органы власти, а не в связи с публикацией в прессе. Заявитель действовал в рамках, предоставленных законом для подачи жалоб. Он направил письмо с жалобой непосредственному руководителю того официального лица, на действия которого он жаловался. Письмо было направлено только адресату, заявитель не публиковал и не предпринимал никаких действий, чтобы оно стало известным широкому кругу читателей. Государство-ответчик не представило Суду информацию о том, как именно истец получила копию письма заявителя.
Оценивая обстоятельства дела, Суд напомнил, что считает необходимым защищать государственных и муниципальных служащих против диффамационных и оскорбительных нападок, которые могли бы принести вред исполнению их обязанностей и снизить уровень доверия к ним со стороны общественности. Однако степень этой защиты зависит от обстоятельств конкретного дела. В деле Захарова недовольство заявителя было выражено в письме, а не публично. Таким образом, принцип защиты репутации должностного лица должен рассматриваться в связке с возможностью человека обжаловать вышестоящему должностному лицу действия государственного служащего, которые он считает неправомерными, а не в контексте открытой дискуссии по вопросам общественной значимости. Европейский Суд отметил, что Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении 18 августа 1992 г. прямо указал, что сообщение информации о действиях должностного лица тому органу или чиновнику, к компетенции которого относится рассмотрение этого вопроса, не может быть признано распространением информации. Тем не менее, национальные суды, рассматривавшие дело Захарова, не приняли это во внимание. Также национальные инстанции не указали, какие именно "насущные потребности" требовали вмешательства государства в виде привлечения Захарова к гражданско-правовой ответственности за диффамацию.
Кроме того, Суд отметил, что письмо заявителя не содержало никаких оскорбительных выражений. Высказывания заявителя были эмоциональными, преувеличенными и провоцирующими, но, тем не менее, письмо не выходило за рамки приемлемой критики, особенно с учетом того, что критика в отношении государственных служащих допустима в большем объеме, чем в отношении частных лиц. Более того, упомянутый в письме факт занятия гражданкой В. участка земли, не был оспорен и опровергнут, соответственно, утверждения заявителя имели под собой определенную фактическую основу. Суд признал, что в российском праве не проведено границы между фактами и мнениями, когда речь идет о доказывании их правдивости. Однако Суд придерживается другой позиции: истинность мнения невозможно доказать, требование доказать правдивость своих оценочных высказываний сама по себе является нарушением статьи 10 Конвенции, гарантирующей свободу слова. В данном деле, исходя из формулировки решения кассационной инстанции, заявитель был привлечен к ответственности за свои оценочные суждения, такие как: "возмутительное поведение", "антисоциальное поведение", "по видимости сделала исключение". Эти фразы показывали его личное отношение к действиям главы городского совета. Правдивость этих выражений с очевидностью не может быть доказана.
На этом основании Суд признал, что у российских властей не было достаточных оснований для вмешательства в право заявителя на свободную передачу информации, что следует считать нарушением статьи 10 Конвенции. Суд назначил заявителю компенсацию в размере 1000 Евро.
http://www.prison.org/smi/07122006.shtml
Дело Zakharov v. Russia
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
За державу обидно! Да и за малую родину тоже. Ну почему судья Страсбургского суда знает, что есть Постановление Пленума Верховного Суда РФ, где указано, что обращение по поводу действий дожностного лица в орган или к другому должностному лицу, к компетенции которых относится решение этого вопроса, не является распространением информации, а судья Дмитровского суда не знает?
- Людгер
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Пн фев 19, 2007 15:19 pm
Занятия прогуливали :)
Да как то наших судей больше волнует какая реакция будет у администрации, нежели соблюдение каких от прав.
Да как то наших судей больше волнует какая реакция будет у администрации, нежели соблюдение каких от прав.
-

gosha - Граф зе Админ
- Сообщения: 16084
- Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2003 14:19 pm
- Откуда: Кончинино
Людгер писал(а):почему судья Страсбургского суда знает ... а судья Дмитровского суда не знает?
Вы, судя по всему, не так часто бываете в судах, а то бы еще не того наслушались. Ситуации, когда все можно легко перевернуть с ног на голову, частенько бывают. Чаще, правда, у мировых. Вот кто заслуживает мирового недоверия!
- Не будь лохом
- Пользователь
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: Вт фев 27, 2007 2:03 am
Сообщений: 7
• Страница 1 из 1
Вернуться в Власть, администрация
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1