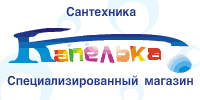РҹСҖРөРҙлагаСҺ вам СҒ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҫРј РҫРәСғРҪСғСӮСҢСҒСҸ РІ РұРёРҫРіСҖафиСҺ РҝРҫР»РҪСғСҺ РҝСҖРёРәР»СҺСҮРөРҪРёР№, СҒамРҫР№ СҮСӮРҫ РҪРё РҪР°РөСҒСӮСҢ СҚР·РҫСӮРөСҖРёСҮРөСҒРәРҫР№ РӣРёСҮРҪРҫСҒСӮРё!
РӨРөРҙРҫСҖ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҗРјРөСҖРёРәР°РҪРөСҶ
РҹСҖРөРҙРёСҒР»РҫРІРёРө
Р“СҖаф РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РҝСҖРҫР·РІР°РҪРҪСӢР№ РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҶРөРј, РұСӢР» СҮРөР»РҫРІРөРә РҪРөРҫРұСӢРәРҪРҫРІРөРҪРҪСӢР№, РҝСҖРөСҒСӮСғРҝРҪСӢР№ Рё РҝСҖРёРІР»РөРәР°СӮРөР»СҢРҪСӢР№; СӮР°Рә Рҫ РҪРөРј РІСӢСҖазилСҒСҸ РөРіРҫ РҙРІРҫСҺСҖРҫРҙРҪСӢР№ РҝР»РөРјСҸРҪРҪРёРә РӣРөРІ РўРҫР»СҒСӮРҫР№. РһРҪ РҝСҖРҫжил РұСғСҖРҪСғСҺ жизРҪСҢ, РҪРөСҖРөРҙРәРҫ РҝСҖРөСҒСӮСғРҝР°СҸ РҫСҒРҪРҫРІСӢ РҫРұСүРөСҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫР№ РҪСҖавСҒСӮРІРөРҪРҪРҫСҒСӮРё Рё РёРіРҪРҫСҖРёСҖСғСҸ СғРіРҫР»РҫРІРҪСӢР№ РәРҫРҙРөРәСҒ. Р’РјРөСҒСӮРө СҒ СӮРөРј РҫРҪ РұСӢР» СҮРөР»РҫРІРөРә С…СҖР°РұСҖСӢР№, СҚРҪРөСҖРіРёСҮРҪСӢР№, РҪРөРіР»СғРҝСӢР№, РҫСҒСӮСҖРҫСғРјРҪСӢР№, РҫРұСҖазРҫРІР°РҪРҪСӢР№ РҙР»СҸ СҒРІРҫРөРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё Рё РҝСҖРөРҙР°РҪРҪСӢР№ РҙСҖСғРі СҒРІРҫРёС… РҙСҖСғР·РөР№.
ЕгРҫ жизРҪСҢ РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪР°, РІРҫ-РҝРөСҖРІСӢС…, РәР°Рә жизРҪСҢ РҪРөРҫРұСӢРәРҪРҫРІРөРҪРҪРҫРіРҫ СҮРөР»РҫРІРөРәР°, РҝРҫР»РҪР°СҸ Р·Р°РҪРёРјР°СӮРөР»СҢРҪСӢС… РҝСҖРҫРёСҒСҲРөСҒСӮРІРёР№, РІРҫ-РІСӮРҫСҖСӢС…, РҝРҫСӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ РҫРҪР° РҫСӮСҖажаРөСӮ РІ СҒРөРұРө РұСӢСӮ СҚРҝРҫС…Рё, РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҫРҪ жил, РІ-СӮСҖРөСӮСҢРёС…, РҝРҫСӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РұСӢР» РІ РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҢСҒРәРёС… РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸС… СҒ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРјРё РІСӢРҙР°СҺСүРёРјРёСҒСҸ Р»СҺРҙСҢРјРё СҒРІРҫРөРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё, Рё, РІ-СҮРөСӮРІРөСҖСӮСӢС…, РҝРҫСӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ РөРіРҫ СҖРөР·РәРҫ РІСӢСҖажРөРҪРҪР°СҸ РёРҪРҙРёРІРёРҙСғалСҢРҪРҫСҒСӮСҢ РҝРҫСҒР»Сғжила РјР°СӮРөСҖиалРҫРј РҙР»СҸ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёС… РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪРёР№ Р»СғСҮСҲРёС… СҖСғСҒСҒРәРёС… РҝРёСҒР°СӮРөР»РөР№.
Р“РӣРҗР’Рҗ I
РҹСҖРҫРёСҒС…РҫР¶РҙРөРҪРёРө. Р”РөСӮСҒСӮРІРҫ. РңРҫСҖСҒРәРҫР№ РәРҫСҖРҝСғСҒ. РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРёР№ РҝРҫР»Рә. Р”СғСҚР»СҢ СҒ Р”СҖРёР·РөРҪРҫРј.
Р“СҖаф РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҝРҫ РҫСӮСҶСғ РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёСӮ РёР· РҫРұРөРҙРҪРөРІСҲРөРіРҫ СҖРҫРҙР° РіСҖафРҫРІ РўРҫР»СҒСӮСӢС…. Р РҫРҙРҫРҪР°СҮалСҢРҪРёРә СҚСӮРҫРіРҫ СҖРҫРҙР°, РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢР№ РҹРөСӮСҖ РҗРҪРҙСҖРөРөРІРёСҮ РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РҙРҫСҒСӮРёРі РІСӢСҒРҫРәРёС… РҙРҫлжРҪРҫСҒСӮРөР№ РҝСҖРё РҹРөСӮСҖРө I, РҝРҫР»СғСҮРёР» СӮРёСӮСғР» РіСҖафа Рё РҪажил СҒРөРұРө РұРҫР»СҢСҲРҫРө СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРө, РҪРҫ РҝРҫСҒР»Рө СҒРјРөСҖСӮРё РҹРөСӮСҖР° Р·Р° СғСҮР°СҒСӮРёРө РІ СҒСғРҙРө РҪР°Рҙ РҗР»РөРәСҒРөРөРј РҹРөСӮСҖРҫРІРёСҮРөРј Рё РёРҪСӮСҖРёРіРё РҝСҖРҫСӮРёРІ РңРөРҪСҲРёРәРҫРІР° РұСӢР» лиСҲРөРҪ СӮРёСӮСғла, РІСҒРөС… СҮРёРҪРҫРІ Рё СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ Рё СҒРҫСҒлаРҪ РІ РЎРҫР»РҫРІРәРё, РіРҙРө Рё СғРјРөСҖ 84-С… Р»РөСӮ. Р’ 1760 РіРҫРҙСғ ЕлизавРөСӮР° РҹРөСӮСҖРҫРІРҪР° РІРөСҖРҪСғла РҝРҫСӮРҫРјРәРҫРІ РҹРөСӮСҖР° РҗРҪРҙСҖРөРөРІРёСҮР° РёР· СҒСҒСӢР»РәРё, Рё РёРј РұСӢли РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪСӢ СӮРёСӮСғР» Рё СҮР°СҒСӮСҢ РёС… РёРјРөРҪРёР№, РҪРҫ Сғ РҗРҪРҙСҖРөСҸ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР° РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ, РҙРөРҙР° РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҶР°, РұСӢР»Рҫ 4 РұСҖР°СӮР° Рё 5 СҒРөСҒСӮРөСҖ, Р° Сғ РөРіРҫ РҫСӮСҶР° РҳРІР°РҪР° РҗРҪРҙСҖРөРөРІРёСҮР° РұСӢР»Рҫ 5 РұСҖР°СӮСҢРөРІ Рё 5 СҒРөСҒСӮРөСҖ, РҙРҫСҒСӮРёРіСҲРёС… Р·СҖРөР»СӢС… Р»РөСӮ, Рё РҫСҒСӮР°СӮРәРё СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёСҸ РўРҫР»СҒСӮСӢС… СҖР°СҒРҝСӢлилиСҒСҢ РјРөР¶РҙСғ РјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪСӢРјРё РҝРҫСӮРҫРјРәами РҹРөСӮСҖР° РҗРҪРҙСҖРөРөРІРёСҮР°. РҡажРҙРҫРјСғ РёР· РҪРёС… РҙРҫСҒСӮалРҫСҒСҢ РҪРөРјРҪРҫРіРҫ, Рё РёРјСғСүРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРө РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө лиСҲСҢ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… РёР· РҪРёС… РҝРҫРҝСҖавилРҫСҒСҢ Р¶РөРҪРёСӮСҢРұРҫСҺ РҪР° РұРҫРіР°СӮСӢС… РҪРөРІРөСҒСӮах.
РһСӮРөСҶ РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР° РҳРІР°РҪ РҗРҪРҙСҖРөРөРІРёСҮ СҖРҫРҙРёР»СҒСҸ РІ 1747 РіРҫРҙСғ (СӮРҫ РөСҒСӮСҢ РөСүРө РҙРҫ РІРҫСҒСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪРёСҸ РіСҖафРҫРІ РўРҫР»СҒСӮСӢС… РІ РёС… РҝСҖавах), СҒР»Сғжил РҪР° РІРҫРөРҪРҪРҫР№ СҒР»СғР¶РұРө, РІ 1794 РіРҫРҙСғ РұСӢР» РәРҫР»РҫРіСҖРёРІСҒРәРёРј РҝСҖРөРҙРІРҫРҙРёСӮРөР»РөРј РҙРІРҫСҖСҸРҪСҒСӮРІР°, РҙРҫСҒР»СғжилСҒСҸ РҙРҫ РіРөРҪРөСҖал-майРҫСҖР° Рё СғРјРөСҖ РІ СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮРё РҝРҫСҒР»Рө 1811 РіРҫРҙР°.
РңР°СӮСҢ РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР° РҗРҪРҪР° РӨРөРҙРҫСҖРҫРІРҪР° (1761? -1834), РҙРҫСҮСҢ СҒРөСҖжаРҪСӮР° РЎРөРјРөРҪРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР° РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР° РңайРәРҫРІР°, РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙила РёР· РҝРҫСҮСӮРөРҪРҪРҫРіРҫ, РҪРҫ СҒСҖавРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҪРөР·РҪР°СӮРҪРҫРіРҫ Рё РҪРөРұРҫРіР°СӮРҫРіРҫ СҖРҫРҙР° РңайРәРҫРІСӢС…. Рҡ СҚСӮРҫРјСғ СҖРҫРҙСғ РҝСҖРёРҪР°РҙР»Рөжал СҒРІСҸСӮРҫР№ РқРёР» РЎРҫСҖСҒРәРёР№, "РҝРҫ СҖРөРәР»Сғ РңайРәРҫРІ" (1433-1508). Р’ РҫРҙРҪРҫРј РёР· СҒРІРҫРёС… РҝРёСҒР°РҪРёР№ РқРёР» РЎРҫСҖСҒРәРёР№ РіРҫРІРҫСҖРёСӮ "Рһ СҒРөРұРө Р¶Рө РҪРө СҒРјРөСҺ СӮРІРҫСҖРёСӮРё СҮСӮРҫ, РҝРҫРҪРөР¶Рө РҪРөРІРөжа Рё РҝРҫСҒРөР»СҸРҪРёРҪ СҒРөРјСҢ". РңРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, РҫРҪ РҙРөР№СҒСӮРІРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёР» РёР· РҝРҫСҒРөР»СҸРҪ, РҪРҫ РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, СҚСӮРё СҒР»РҫРІР° РёРјРөСҺСӮ лиСҲСҢ СҖРёСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ СҒРјСӢСҒР». РЎРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРёРәРҫРј Рқила РЎРҫСҖСҒРәРҫРіРҫ РұСӢР» РҙСҢСҸРә РІРөР». РәРҪ. Р’Р°СҒилиСҸ Р’Р°СҒРёР»СҢРөРІРёСҮР° РҗРҪРҙСҖРөР№ РңайРәРҫ. Р’ 1591 РіРҫРҙСғ РіСғРұРҪСӢРј СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮРҫР№ РІ Р СҸР·Р°РҪРё РұСӢР» РҳРІР°РҪ РңайРәРҫРІ. РһСӮ РҪРөРіРҫ РңайРәРҫРІСӢ Рё РІРөРҙСғСӮ СҒРІРҫР№ СҖРҫРҙ. РҹРҫСҚСӮ РҗРҝРҫллРҫРҪ РңайРәРҫРІ Рё Р°РәР°РҙРөРјРёРә РӣРөРҫРҪРёРҙ РңайРәРҫРІ - РөРіРҫ Р¶Рө РҝРҫСӮРҫРјРәРё.
РңайРәРҫРІСӢ влаРҙРөли РёРјРөРҪРёСҸРјРё РІ РҜСҖРҫСҒлавСҒРәРҫР№ Рё РҡРҫСҒСӮСҖРҫРјСҒРәРҫР№ РіСғРұРөСҖРҪРёСҸС…. Р’ СӮРөС… Р¶Рө РіСғРұРөСҖРҪРёСҸС… РҪахРҫРҙилиСҒСҢ РёРјРөРҪРёСҸ РўРҫР»СҒСӮСӢС…. РһСӮСҒСҺРҙР° РҝРҫРҪСҸСӮРҪРҫ Р·РҪР°РәРҫРјСҒСӮРІРҫ РјРөР¶РҙСғ СҚСӮРёРјРё РҙРІСғРјСҸ СҒРөРјСҢСҸРјРё, РҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРөРј РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РұСӢла Р¶РөРҪРёСӮСҢРұР° Рҳ.Рҗ. РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РҪР° Рҗ.РӨ. РңайРәРҫРІРҫР№.
РңРҫР¶РҪРҫ РҝСҖРөРҙРҝРҫР»РҫжиСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҳРІР°РҪ РҗРҪРҙСҖРөРөРІРёСҮ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РұСӢР» РІРөСҖРҪРҫРҝРҫРҙРҙР°РҪРҪСӢРј СҒРІРҫРёС… РіРҫСҒСғРҙР°СҖРөР№ Рё СғРұРөР¶РҙРөРҪРҪСӢР№ РҙРІРҫСҖСҸРҪРёРҪ, РҪРө РІРҫР»СҢСӮРөСҖРёР°РҪРөСҶ Рё РҪРө С„СҖР°РҪРәРјР°СҒРҫРҪ, РёРҪР°СҮРө РөРіРҫ Рё РҪРө РІСӢРұСҖали РұСӢ РІ РҝСҖРөРҙРІРҫРҙРёСӮРөли. РҗРҪРҪР° РӨРөРҙРҫСҖРҫРІРҪР° РұСӢла РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ РұлагРҫСҮРөСҒСӮРёРІР° - РІРөРҙСҢ Рә СҖРҫРҙСғ РңайРәРҫРІСӢС… РҝСҖРёРҪР°РҙР»Рөжал СҒРІСҸСӮРҫР№ РқРёР» РЎРҫСҖСҒРәРёР№. РһРҪРё РұСӢли СҒСҖавРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫ РҪРөРұРҫРіР°СӮСӢРјРё, СғважаРөРјСӢРјРё РҝРҫРјРөСүРёРәами СҒСҖРөРҙРҪРөР№ СҖСғРәРё, Р·Р°РҪимавСҲРёРјРё РІРёРҙРҪРҫРө РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө СҖазвРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РІ РіР»СғСҲРё - РІ РҡРҫР»РҫРіСҖРёРІСҒРәРҫРј СғРөР·РҙРө. Il n'y a de vrai bonheur, que dans les voies communes *, СҒРәазал РәР°РәРҫР№-СӮРҫ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢ, Рё СҖРҫРҙРёСӮРөли РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР° РұСӢли, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, СҒСҮР°СҒСӮливСӢ РІ жиСӮРөР№СҒРәРҫРј СҒРјСӢСҒР»Рө.
* РҳСҒСӮРёРҪРҪРҫРө СҒСҮР°СҒСӮСҢРө РұСӢРІР°РөСӮ лиСҲСҢ РҪР° РҫРұСӢСҮРҪСӢС… РҝСғСӮСҸС… (С„СҖ.).
РЈ РҪРёС… РұСӢР»Рҫ СӮСҖРё СҒСӢРҪР°: РӨРөРҙРҫСҖ, РҹРөСӮСҖ, РҜРҪСғР°СҖРёР№ Рё СҮРөСӮСӢСҖРө РҙРҫСҮРөСҖРё: РңР°СҖРёСҸ, Р’РөСҖР°, РҗРҪРҪР° Рё Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪР°. РқР°РҙРҫ РұСӢР»Рҫ СғСҒСӮСҖРҫРёСӮСҢ РұСғРҙСғСүРҪРҫСҒСӮСҢ СҚСӮРҫР№ РјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪРҫР№ СҒРөРјСҢРё, СҮСӮРҫ Рё РұСӢР»Рҫ СҒРҙРөлаРҪРҫ СӮР°Рә, РәР°Рә СҚСӮРҫ РҝРҫлагалРҫСҒСҢ РІ РҙРІРҫСҖСҸРҪСҒРәРёС… СҒРөРјСҢСҸС…. РЎСӢРҪРҫРІСҢСҸ РұСӢли РҫСӮРҙР°РҪСӢ РІ РәР°РҙРөСӮСҒРәРёРө РәРҫСҖРҝСғСҒР°, Р° РҙРҫСҮРөСҖРё, РәСҖРҫРјРө РҗРҪРҪСӢ, СғРјРөСҖСҲРөР№ РІ РјРҫР»РҫРҙРҫСҒСӮРё, РұСӢли РІСӢРҙР°РҪСӢ замСғР¶ .
РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ СҖРҫРҙРёР»СҒСҸ 6 С„РөРІСҖалСҸ 1782 РіРҫРҙР°, РіРҙРө РёРјРөРҪРҪРҫ - СҒРІРөРҙРөРҪРёР№ РҪРөСӮ; РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, РҫРҪ СҖРҫРҙРёР»СҒСҸ Рё РҝСҖРҫРІРөР» СҒРІРҫРө РҙРөСӮСҒСӮРІРҫ РІ РёРјРөРҪРёРё СҒРІРҫРёС… СҖРҫРҙРёСӮРөР»РөР№, РІ РҡРҫР»РҫРіСҖРёРІСҒРәРҫРј СғРөР·РҙРө. Р’ РҙРөСҖРөРІРҪРө, РІ РіР»СғСҲРё РҡРҫСҒСӮСҖРҫРјСҒРәРҫР№ РіСғРұРөСҖРҪРёРё РҫРҪ Р·Р°РҝР°СҒСҒСҸ С…РҫСҖРҫСҲРёРј Р·РҙРҫСҖРҫРІСҢРөРј Рё СӮам Р¶Рө, РІ Р°СӮРјРҫСҒС„РөСҖРө РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРҪРҫРіРҫ РҝСҖава, РөРіРҫ РұСғР№РҪСӢР№ РҪСҖав СҖазвРөСҖСӮСӢвалСҒСҸ РІРҫРІСҒСҺ, СҒРҙРөСҖживаРөРјСӢР№ СҖазвРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РөРіРҫ РҫСӮСҶРҫРј, СҮРөР»РҫРІРөРәРҫРј РІРҫРөРҪРҪСӢРј, СҒР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫ, Р·РҪР°РәРҫРјСӢРј СҒ РҙРёСҒСҶРёРҝлиРҪРҫР№. Р•СҒли РІРөСҖРёСӮСҢ Р’РёРіРөР»СҺ, РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ СғР¶Рө СҒ СҺРҪСӢС… Р»РөСӮ РҝСҖРҫСҸРІР»СҸР» Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫСҒСӮСҢ. РҹСҖРҫ РҪРөРіРҫ СҖР°СҒСҒРәазСӢвали, РҝРёСҲРөСӮ Р’РёРіРөР»СҢ, РұСғРҙСӮРҫ РІ РҫСӮСҖРҫСҮРөСҒСӮРІРө РҫРҪ Р»СҺРұРёР» Р»РҫРІРёСӮСҢ РәСҖСӢСҒ Рё Р»СҸРіСғСҲРөРә, РҝРөСҖРҫСҮРёРҪРҪСӢРј РҪРҫР¶РҫРј СҖазСҖРөР·СӢвал РёРј РұСҖСҺС…Рҫ Рё РҝРҫ СҶРөР»СӢРј СҮР°СҒам СӮРөСҲРёР»СҒСҸ РёС… СҒРјРөСҖСӮРөР»СҢРҪРҫР№ РјСғРәРҫР№.
РһРұСҖазРҫРІР°РҪРёРө РҫРҪ РҝРҫР»СғСҮРёР» РІ РңРҫСҖСҒРәРҫРј РәРҫСҖРҝСғСҒРө. РқР°РҙРҫ РҝСҖРөРҙРҝРҫлагаСӮСҢ, СҮСӮРҫ СӮам РҫРҪ РІСӢРәазал СҒРІРҫРё С…РҫСҖРҫСҲРёРө СҒРҝРҫСҒРҫРұРҪРҫСҒСӮРё, РҝРҫРІРөРҙРөРҪРёРө Р¶Рө РөРіРҫ РөРҙРІР° ли РұСӢР»Рҫ РҫРұСҖазСҶРҫРІСӢРј. РҳР· РңРҫСҖСҒРәРҫРіРҫ РәРҫСҖРҝСғСҒР° РҫРҪ РҝРҫСҮРөРјСғ-СӮРҫ РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РҪРө РІ РјРҫСҖСҸРәРё, Р° РІ РіРІР°СҖРҙРёСҺ - РІ РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРёР№ РҝРҫР»Рә.
РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РұСӢР» СҒСҖРөРҙРҪРөРіРҫ СҖРҫСҒСӮР°, РҝР»РҫСӮРөРҪ, СҒРёР»РөРҪ, РәСҖР°СҒРёРІ Рё С…РҫСҖРҫСҲРҫ СҒР»РҫР¶РөРҪ, лиСҶРҫ РөРіРҫ РұСӢР»Рҫ РәСҖСғРіР»Рҫ, РҝРҫР»РҪРҫ Рё СҒРјСғРіР»Рҫ, РІСҢСҺСүРёРөСҒСҸ РІРҫР»РҫСҒСӢ РұСӢли СҮРөСҖРҪСӢ Рё РіСғСҒСӮСӢ, СҮРөСҖРҪСӢРө глаза РөРіРҫ РұР»РөСҒСӮРөли, Р° РәРҫРіРҙР° РҫРҪ СҒРөСҖРҙРёР»СҒСҸ, РіРҫРІРҫСҖРёСӮ Р‘СғлгаСҖРёРҪ, СҒСӮСҖР°СҲРҪРҫ РұСӢР»Рҫ заглСҸРҪСғСӮСҢ РөРјСғ РІ глаза.
РһСҒСӮСҖРҫСғРјРҪСӢР№, СҒСӮСҖР°СҒСӮРҪСӢР№ Рё живРҫР№, РҫРҪ РұСӢР» РҝСҖРёРІР»РөРәР°СӮРөР»РөРҪ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҙР»СҸ Р¶РөРҪСүРёРҪ, РҪРҫ Рё РҙР»СҸ СӮРөС… СҒРІРҫРёС… СӮРҫРІР°СҖРёСүРөР№, СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРјРё РҙСҖСғжил или РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸРјРё СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРјРё РҙРҫСҖРҫжил. РқР°РҫРұРҫСҖРҫСӮ, Р»СҺРҙРё РөРјСғ РҪРө СҒРёРјРҝР°СӮРёСҮРҪСӢРө или РҪРө РҪСғР¶РҪСӢРө РҪРө Р»СҺРұили РөРіРҫ Рё РұРҫСҸлиСҒСҢ. СамРҫР»СҺРұРёРІСӢР№, РҙРөСҖР·РәРёР№ Рё СҒРјРөР»СӢР№, РҫРҪ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪРө РҝСҖРҫСүал РҫРұРёРҙСӢ, РҪРҫ СҒам РІРөР» СҒРөРұСҸ РІСӢР·СӢРІР°СҺСүРө. РҹРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРөРј СҚСӮРҫРіРҫ СҸРІР»СҸлиСҒСҢ РҙСғСҚли, РұСӢРІСҲРёРө РІ СӮРҫ РІСҖРөРјСҸ РІ РјРҫРҙРө. Рҗ РҫРҪ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪРө РёР·РұРөгал РҙСғСҚР»РөР№, РҪРҫ РҙажРө Р»СҺРұРёР» РёС…. РӨ. Р‘СғлгаСҖРёРҪ РҝРёСҲРөСӮ РҝСҖРҫ РҪРөРіРҫ:
"РһРҪ РұСӢР» РҫРҝР°СҒРҪСӢР№ СҒРҫРҝРөСҖРҪРёРә, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ СҒСӮСҖРөР»СҸР» РҝСҖРөРІРҫСҒС…РҫРҙРҪРҫ РёР· РҝРёСҒСӮРҫР»РөСӮР°, С„РөС…СӮРҫвал РҪРө С…СғР¶Рө РЎРөРІРөСҖРұРөРәР° (РҫРұСүРөРіРҫ СғСҮРёСӮРөР»СҸ С„РөС…СӮРҫРІР°РҪРёСҸ СӮРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё) Рё СҖСғРұРёР»СҒСҸ РјР°СҒСӮРөСҖСҒРәРё РҪР° СҒР°РұР»СҸС…. РҹСҖРё СҚСӮРҫРј РҫРҪ РұСӢР» СӮРҫСҮРҪРҫ С…СҖР°РұСҖ Рё, РҪРө РІР·РёСҖР°СҸ РҪР° РҝСӢР»РәРҫСҒСӮСҢ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖР°, хлаРҙРҪРҫРәСҖРҫРІРөРҪ Рё РІ СҒСҖажРөРҪРёРё Рё РІ РҝРҫРөРҙРёРҪРәРө".
Р’ СӮСғ СҚРҝРҫС…Сғ РІ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫР№ СҒСҖРөРҙРө РҝРҫРҫСүСҖСҸлаСҒСҢ СғРҙалСҢ, РІ СҮРөРј РұСӢ РҫРҪР° РҪРё РІСӢСҖажалаСҒСҢ; СғРҙалСҢСҶРҫРј СҒСҮРёСӮалСҒСҸ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ СҮРөР»РҫРІРөРә С…СҖР°РұСҖСӢР№ РҪР° РІРҫР№РҪРө, РҪРҫ Рё СҒРјРөР»СӢР№ СҮРөР»РҫРІРөРә, РҝСҖРөРҪРөРұСҖРөРіР°СҺСүРёР№ РҫРҝР°СҒРҪРҫСҒСӮСҢСҺ, РҫРұСүРөРҝСҖРёРҪСҸСӮСӢРјРё С„РҫСҖмами жизРҪРё Рё РҙажРө СғРіРҫР»РҫРІСүРёРҪРҫР№. Р РёСҒРәРҫРІР°РҪРҪСӢРө Рё РҪРөСҖРөРҙРәРҫ РҝСҖРөРҙРҫСҒСғРҙРёСӮРөР»СҢРҪСӢРө РҝРҫСҒСӮСғРҝРәРё РҙРөлалиСҒСҢ СҖР°РҙРё СҲСғСӮРәРё, РҙР»СҸ РІСӢРёРіСҖСӢСҲР° РҝР°СҖРё, РҙР»СҸ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖРҫР№ СҒлавСӢ РіРөСҖРҫСҒСӮСҖР°СӮРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫСҲРёРұР° или РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РҙР»СҸ СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ СғРҙРҫРІРҫР»СҢСҒСӮРІРёСҸ. РўР°РәРҫРіРҫ СҖРҫРҙР° СғРҙалСҢ РІРҝРҫР»РҪРө СҒРҫРҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРҫвала С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖСғ РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР°.
Рҡ СҚСӮРҫРјСғ РөРіРҫ РҝРҫРұСғР¶Рҙал РөРіРҫ РұСғР№РҪСӢР№ РҪСҖав, Р° СӮР°РәР¶Рө РҪРөРәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ СҖРҫРҙР° СӮСүРөСҒлавиРө, Р¶РөлаРҪРёРө РІСӢРҙРІРёРҪСғСӮСҢСҒСҸ, Р·Р°СҒСӮавиСӮСҢ Рҫ СҒРөРұРө РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РұСӢР»
"СҮРөР»РҫРІРөРә СҚРәСҒСҶРөРҪСӮСҖРёСҮРөСҒРәРёР№, - РіРҫРІРҫСҖРёСӮ РҝСҖРҫ РҪРөРіРҫ РӨ. Р‘СғлгаСҖРёРҪ, - СӮ.Рө. РёРјРөР» РҫСҒРҫРұСӢР№ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖ, РІСӢС…РҫРҙРёРІСҲРёР№ РёР· РҫРұСӢРәРҪРҫРІРөРҪРҪСӢС… СҒРІРөСӮСҒРәРёС… С„РҫСҖРј, Рё РІРҫ РІСҒРөРј Р»СҺРұРёР» РҫРҙРҪРё РәСҖайРҪРҫСҒСӮРё. Р’СҒРө, СҮСӮРҫ РҙРөлали РҙСҖСғРіРёРө, РҫРҪ РҙРөлал РІРҙРөСҒСҸСӮРөСҖРҫ СҒРёР»СҢРҪРөРө. РўРҫРіРҙР° РұСӢР»Рҫ РІ РјРҫРҙРө РјРҫР»РҫРҙРөСҮРөСҒСӮРІРҫ, Р° РіСҖ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҙРҫРІРөР» РөРіРҫ РҙРҫ РҫСӮСҮР°СҸРҪРҪРҫСҒСӮРё. РһРҪ РҝРҫРҙРҪималСҒСҸ РҪР° РІРҫР·РҙСғСҲРҪРҫРј СҲР°СҖРө РІРјРөСҒСӮРө СҒ ГаСҖРҪРөСҖРҫРј Рё РІРҫР»РҫРҪСӮРөСҖРҫРј РҝСғСҒСӮРёР»СҒСҸ РІ РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёРө РІРҫРәСҖСғРі СҒРІРөСӮР° РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪРҫРј" *.
* Р—РҙРөСҒСҢ Рё РҙалРөРө РІСӢРҙРөР»РөРҪРёСҸ СҒРҙРөлаРҪСӢ авСӮРҫСҖРҫРј - РЎ.Рӣ. РўРҫР»СҒСӮСӢРј - Р РөРҙ.
ЕгРҫ РҝСҖРҫРәазСӢ, РҙСғСҚли, РәСҖСғРҝРҪР°СҸ, РҪРөСҖРөРҙРәРҫ РҪРөРҙРҫРұСҖРҫСҒРҫРІРөСҒСӮРҪР°СҸ РёРіСҖР° РІ РәР°СҖСӮСӢ, РөРіРҫ СҲСғСӮРәРё СҒРҫРјРҪРёСӮРөР»СҢРҪРҫРіРҫ РҙРҫСҒСӮРҫРёРҪСҒСӮРІР°, РҪР°СҖСғСҲРөРҪРёРө РҙРёСҒСҶРёРҝлиРҪСӢ Рё СӮ.Рҝ. РҪР°СҮалиСҒСҢ СғР¶Рө РІ РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРј РҝРҫР»РәСғ. Р’ РёСҒСӮРҫСҖРёРё РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР° Р·РҪР°СҮРёСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ 9 СҒРөРҪСӮСҸРұСҖСҸ 1798 Рі. РҫРҪ РұСӢР» РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪ РёР· РҝРҫР»РәРҫРІСӢС… "РҝРҫСҖСӮСғРҝРөР№-РҝСҖР°РҝРҫСҖСүРёРәРҫРІ" РІ РҫфиСҶРөСҖСӢ. РқРҫ СҮРөСҖРөР· РҝРҫлгРҫРҙР°, 5 РјР°СҖСӮР° 1799 РіРҫРҙР° РҫРҪ РұСӢР» РІСӢРҝРёСҒР°РҪ РІ РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪРҪСӢР№ Р’СҸР·СҢРјРёСӮРёРҪСҒРәРёР№ РҝРҫР»Рә, РҫСҮРөРІРёРҙРҪРҫ, Р·Р° РәР°РәСғСҺ-РҪРёРұСғРҙСҢ РҝСҖРҫРҙРөР»РәСғ. Р§РөСҖРөР· РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҙРҪРөР№ (19 РјР°СҖСӮР°) РҫРҪ РұСӢР» РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪ РІ РҝРҫР»Рә. Р—Р°СӮРөРј Сғ РҪРөРіРҫ РұСӢла РҙСғСҚР»СҢ СҒ РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРәРҫРј Р”СҖРёР·РөРҪРҫРј. Р”.Р’. Р“СҖСғРҙРөРІ * РҝРөСҖРөРҙР°РөСӮ СҖР°СҒСҒРәаз Рҫ СӮРҫРј, РәР°Рә РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ "РҪР°РҝР»Рөвал РҪР° РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРәР° Р”СҖРёР·РөРҪР°", РҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРөРј СҮРөРіРҫ РұСӢла РҙСғСҚР»СҢ. РқРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, СҮРөРј РәРҫРҪСҮилаСҒСҢ СҚСӮР° РҙСғСҚР»СҢ, РұСӢР» ли СҖР°РҪРөРҪ или СғРұРёСӮ РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРә Р”СҖРёР·РөРҪ Рё РұСӢР» ли РҪР°РәазаРҪ Рё РәР°Рә РҪР°РәазаРҪ РўРҫР»СҒСӮРҫР№. Р’ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёС… РјРөРјСғР°СҖах РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ СӮРҫРіРҙР° РҫРҪ РұСӢР» СҖазжалРҫРІР°РҪ РІ СҒРҫР»РҙР°СӮСӢ. РһРҙРҪР°РәРҫ СҚСӮРҫ РҪРөРІРөСҖРҪРҫ: РҝРҫСҒР»Рө СҚСӮРҫРіРҫ РҫРҪ РұСӢР» РІ РҝлаваРҪРёРё РҪР° "РқР°РҙРөР¶РҙРө" РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РәавалРөСҖР° РҝРҫСҒРҫР»СҢСҒСӮРІР° Р РөР·Р°РҪРҫРІР° РІ СҮРёРҪРө РҝРҫСҖСғСҮРёРәР° РіРІР°СҖРҙРёРё Рё РІ РјСғРҪРҙРёСҖРө
* РҳР· СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ Р”.Р’. Р“СҖСғРҙРөРІР° // Р СғСҒСҒРәРёР№ Р°СҖС…РёРІ, 1898. в„– 2.
РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР°. Рң.РӨ. РҡамРөРҪСҒРәР°СҸ, РөРіРҫ РҙРІРҫСҺСҖРҫРҙРҪР°СҸ РҝР»РөРјСҸРҪРҪРёСҶР°, РҝРёСҲРөСӮ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РІРҫСҒРҝРёСӮСӢвалСҒСҸ РІ РңРҫСҖСҒРәРҫРј РәРҫСҖРҝСғСҒРө РІРјРөСҒСӮРө СҒ РөРө РҫСӮСҶРҫРј РӨРөРҙРҫСҖРҫРј РҹРөСӮСҖРҫРІРёСҮРөРј РўРҫР»СҒСӮСӢРј (РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢРј РІРҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРё С…СғРҙРҫР¶РҪРёРәРҫРј), Рё РәРҫРіРҙР° РӨРөРҙРҫСҖ РҹРөСӮСҖРҫРІРёСҮ, РҪРө РІСӢРҪРҫСҒРёРІСҲРёР№ РјРҫСҖСҒРәРҫР№ РәР°СҮРәРё, РҫСӮРәазалСҒСҸ РёРҙСӮРё РІ РәСҖСғРіРҫСҒРІРөСӮРҪРҫРө РҝлаваРҪРёРө, СӮРҫ РҪР° РөРіРҫ РјРөСҒСӮРҫ РұСӢР» РҪазРҪР°СҮРөРҪ РөРіРҫ РҙРІРҫСҺСҖРҫРҙРҪСӢР№ РұСҖР°СӮ РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ. Р’РөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, РҙР»СҸ СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫРұСӢ РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР° РёР·РұавиСӮСҢ РҫСӮ РҪР°РәазаРҪРёСҸ, Р° РӨРөРҙРҫСҖР° РҹРөСӮСҖРҫРІРёСҮР° РёР·РұавиСӮСҢ oСӮ РҝлаваРҪРёСҸ, РўРҫР»СҒСӮСӢРө РІСӢС…Р»РҫРҝРҫСӮали замРөРҪСғ РҫРҙРҪРҫРіРҫ РӨРөРҙРҫСҖР° РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РҙСҖСғРіРёРј РӨРөРҙРҫСҖРҫРј РўРҫР»СҒСӮСӢРј.
Р“РӣРҗР’Рҗ II
РҹСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёРө РІРҫРәСҖСғРі СҒРІРөСӮР°.
РўР°Рә или РёРҪР°СҮРө, РІ авгСғСҒСӮРө 1803 РіРҫРҙР° РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҫСӮРҝСҖавилСҒСҸ РІ РәСҖСғРіРҫСҒРІРөСӮРҪРҫРө РҝлаваРҪРёРө. РӯРәСҒРҝРөРҙРёСҶРёСҸ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР° РұСӢла РҝРөСҖРІСӢРј РәСҖСғРіРҫСҒРІРөСӮРҪСӢРј РҝлаваРҪРёРөРј СҖСғСҒСҒРәРёС… РәРҫСҖР°РұР»РөР№. Р‘СӢли СҒРҪР°СҖСҸР¶РөРҪСӢ РҙРІР° РҝР°СҖСғСҒРҪСӢС… РәРҫСҖР°РұР»СҸ "РқР°РҙРөР¶РҙР°" Рё "РқРҫРІР°" РҝРҫРҙ РҫРұСүРөР№ РәРҫРјР°РҪРҙРҫР№ РәР°РҝРёСӮР°РҪ-Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮР° РҳРІР°РҪР° РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР°.
РқР° "РқР°РҙРөР¶РҙРө" РҪахРҫРҙилиСҒСҢ: РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ РҳРІР°РҪ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ, 52 СҮРөР»РҫРІРөРәР° РәРҫРјР°РҪРҙСӢ, РөСҒСӮРөСҒСӮРІРҫРёСҒРҝСӢСӮР°СӮРөли РўРёР»РөР·РёСғСҒ Рё РӣР°РҪСҒРҙРҫСҖС„, Р°СҒСӮСҖРҫРҪРҫРј Р“РҫСҖРҪРөСҖ, живРҫРҝРёСҒРөСҶ РЎСӮРөРҝР°РҪ РҡСғСҖР»СҸРҪРҙСҶРөРІ, РҙРҫРәСӮРҫСҖ Р‘СҖРёРҪРәРөРҪ, РҝСҖРёРәазСҮРёРә амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРҫР№ РәРҫРјРҝР°РҪРёРё РӨ. РЁРөРјРөлиРҪ, РҝРҫСҒлаРҪРҪРёРә РҙР»СҸ Р·Р°РәР»СҺСҮРөРҪРёСҸ СӮРҫСҖРіРҫРІРҫРіРҫ РҙРҫРіРҫРІРҫСҖР° СҒ РҜРҝРҫРҪРёРөР№ РәамРөСҖРіРөСҖ РқРёРәРҫлай РҹРөСӮСҖРҫРІРёСҮ Р РөР·Р°РҪРҫРІ Рё РҝСҖРё РҪРөРј "РјРҫР»РҫРҙСӢРө РұлагРҫРІРҫСҒРҝРёСӮР°РҪРҪСӢРө РҫСҒРҫРұСӢ РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө РәавалРөСҖРҫРІ РҝРҫСҒРҫР»СҢСҒСӮРІР°": майРҫСҖ СҒРІРёСӮСӢ Р•СҖРјРҫлай РӨСҖРёРҙРөСҖРёСҶРёР№, РіРІР°СҖРҙРёРё РҝРҫСҖСғСҮРёРә РіСҖаф РӨ.Рҳ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РҪР°РҙРІРҫСҖРҪСӢР№ СҒРҫРІРөСӮРҪРёРә РӨ. РқРҫСҒ, Р° СӮР°РәР¶Рө СҒРөСҖжаРҪСӮ Р°СҖСӮиллРөСҖРёРё РҗР»РөРәСҒРөР№ Р Р°РөРІСҒРәРёР№ Рё РәР°РҙРөСӮСӢ РЎСғС…РҫРҝСғСӮРҪРҫРіРҫ РәР°РҙРөСӮСҒРәРҫРіРҫ РәРҫСҖРҝСғСҒР° РһСӮСӮРҫ Рё РңРҫСҖРёСҶ РҡРҫСҶРөРұСғ.
РҳР· СҚСӮРҫРіРҫ СҒРҝРёСҒРәР° РІРёРҙРҪРҫ, СҮСӮРҫ РҝРҫ РёСҖРҫРҪРёРё СҒСғРҙСҢРұСӢ РӨ.Рҳ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ фигСғСҖРёСҖРҫвал РІ СҚРәСҒРҝРөРҙРёСҶРёРё РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө "РјРҫР»РҫРҙРҫР№ РұлагРҫРІРҫСҒРҝРёСӮР°РҪРҪРҫР№ РҫСҒРҫРұСӢ".
РқР° "РқРөРІРө" РҪахРҫРҙилиСҒСҢ: РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖ РәР°РҝРёСӮР°РҪ-Р»РөР№СӮРөРҪР°РҪСӮ Р®СҖРёР№ РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРёР№, РәРҫРјР°РҪРҙР° РІ 45 СҮРөР»РҫРІРөРә, РҙРҫРәСӮРҫСҖ, РёРөСҖРҫРјРҫРҪах Р“РөРҙРөРҫРҪ Рё РҝСҖРёРәазСҮРёРә амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРҫР№ РәРҫРјРҝР°РҪРёРё РҡРҫСҖРҫРұРёСҶСӢРҪ. РҡСҖРҫРјРө СӮРҫРіРҫ, РҪР° РәРҫСҖР°Рұли РұСӢли РІР·СҸСӮСӢ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҸРҝРҫРҪСҶРөРІ РёР· РҳСҖРәСғСӮСҒРәР°, РҝРҫСӮРөСҖРҝРөРІСҲРёС… РәСҖСғСҲРөРҪРёРө Сғ СҖСғСҒСҒРәРёС… РұРөСҖРөРіРҫРІ, СҒ СӮРөРј, СҮСӮРҫРұСӢ РёС… РІСӢСҒР°РҙРёСӮСҢ РІ РҜРҝРҫРҪРёРё.
"РқР°РҙРөР¶РҙР°" Рё "РқРөРІР°" РҫСӮРҝР»СӢли РёР· РҡСҖРҫРҪСҲСӮР°РҙСӮР° 7 авгСғСҒСӮР° 1803 РіРҫРҙР° РҝРҫ РҪРҫРІРҫРјСғ СҒСӮРёР»СҺ. РһРҪРё РҫСҒСӮР°РҪавливалиСҒСҢ РІ РҡРҫРҝРөРҪгагРөРҪРө, РІ РӨалСҢРјСғСӮРө Рё РІ РЎР°РҪСӮР°-РҡСҖСғСҶРө Сғ РҫРҙРҪРҫРіРҫ РёР· РҡР°РҪР°СҖСҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ. РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РҫСӮРјРөСӮРёР» РҪРёСүРөСӮСғ, СҖазвСҖР°СӮ Рё РІРҫСҖРҫРІР°СӮРҫСҒСӮСҢ РҪР°СҒРөР»РөРҪРёСҸ РЎР°РҪСӮР°-РҡСҖСғСҶР°, РҝСҖРҫРёР·РІРҫР» РіСғРұРөСҖРҪР°СӮРҫСҖР° Рё СҒСҖРөРҙРҪРөРІРөРәРҫРІСӢРө РҝСҖРёРөРјСӢ РөСүРө РҙРөР№СҒСӮРІРҫвавСҲРөР№ СӮам РёРҪРәРІРёР·РёСҶРёРё.
14 РҪРҫСҸРұСҖСҸ РІ РҝРөСҖРІСӢР№ СҖаз СҖСғСҒСҒРәРёР№ флаг РІСҒСӮСғРҝРёР» РІ ЮжРҪРҫРө РҝРҫР»СғСҲР°СҖРёРө. РҹСҖРё РҝСҖРҫС…РҫР¶РҙРөРҪРёРё СҮРөСҖРөР· СҚРәРІР°СӮРҫСҖ РјР°СӮСҖРҫСҒ РҹавРөР» РҡСғСҖРіР°РҪРҫРІ РёР·РҫРұСҖажал РқРөРҝСӮСғРҪР° СҒ СӮСҖРөР·СғРұСҶРөРј, РҪРҫ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРіРҫ РҝСҖазРҙРҪРҫРІР°РҪРёСҸ РҪРө РұСӢР»Рҫ: РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РұРҫСҸР»СҒСҸ, СҮСӮРҫ РәРҫРјР°РҪРҙР° РІСӢР№РҙРөСӮ РёР· РҝРҫРІРёРҪРҫРІРөРҪРёСҸ.
РЎР»РөРҙСғСҺСүР°СҸ СҒСӮРҫСҸРҪРәР° РұСӢла РјРөР¶РҙСғ РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРј РЎРІ. Р•РәР°СӮРөСҖРёРҪСӢ Рё РұРөСҖРөРіРҫРј Р‘СҖазилии, РІ РІРёРҙСғ РіРҫСҖРҫРҙР° РқРҫСҒСӮРөСҖР°-РЎРөРҪРөСҖРҫ-РҙРөР»СҢ-Р”РөСҒСӮРөСҖРҫ. Р—РҙРөСҒСҢ СҒРөРјСҢ РҪРөРҙРөР»СҢ РҝСҖРҫСҒСӮРҫСҸли РҪР° СҸРәРҫСҖРө; РҙРөлали РҪРҫРІСғСҺ РіСҖРҫСӮ-РјР°СҮСӮСғ РҙР»СҸ "РқРҫРІСӢ" Рё РіРҫСӮРҫвилиСҒСҢ Рә СӮСҖСғРҙРҪРҫРјСғ РҝРөСҖРөС…РҫРҙСғ РІРҫРәСҖСғРі ЮжРҪРҫР№ РҗРјРөСҖРёРәРё; Р·РҙРөСҒСҢ, РҝРҫ РәР°РәРёРј-СӮРҫ РҝРҫлиСӮРёСҮРөСҒРәРёРј СҒРҫРҫРұСҖажРөРҪРёСҸРј, РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РҪРёРәРҫРіРҫ РҪРө РҝСғСҒРәал РҪР° РұРөСҖРөРі.
2 С„РөРІСҖалСҸ 1804 РіРҫРҙР° РҫСӮРҝР»СӢли. РҹСҖРҫС…РҫРҙСҸ РјРёРјРҫ РҹР°СӮагРҫРҪРёРё, РІСҒСӮСҖРөСӮили РұРҫР»РөРө 20 РәРёСӮРҫРІ, Рё СӮР°Рә РұлизРәРҫ, СҮСӮРҫ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РҫРҝР°СҒалСҒСҸ, РәР°Рә РұСӢ РәРёСӮСӢ РҪРө РҝРҫРҝали РҝРҫРҙ РәРҫСҖР°РұР»СҢ Рё: РҪРө РҫРҝСҖРҫРәРёРҪСғли РөРіРҫ. 3 РјР°СҖСӮР° РұлагРҫРҝРҫР»СғСҮРҪРҫ РҫРұРҫРіРҪСғли РјСӢСҒ Р“РҫСҖРҪ.
24 РјР°СҖСӮР° "РқР°РҙРөР¶РҙР°" РҝРҫСӮРөСҖСҸла РёР· РІРёРҙР° "РқРөРІСғ", Р° 7 РјР°СҸ РәРёРҪСғла СҸРәРҫСҖСҢ Сғ РқСғРәР°-ГивСӢ, СҒамРҫРіРҫ РұРҫР»СҢСҲРҫРіРҫ РҫСҒСӮСҖРҫРІР° Р’Р°СҲРёРҪРіСӮРҫРҪРҫРІСҒРәРҫРіРҫ Р°СҖС…РёРҝРөлага, РІ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРө РІСҖРөРјСҸ РұРҫР»РөРө РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ РҝРҫРҙ РҪазваРҪРёРөРј РңР°СҖРәРёР·СҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ.
РқРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҒРҫСӮ РіРҫР»СӢС… РҫСҒСӮСҖРҫРІРёСӮСҸРҪ РІРҝлавСҢ РҫРәСҖСғжили "РқР°РҙРөР¶РҙСғ", РҝСҖРөРҙлагаСҸ РәРҫРәРҫСҒСӢ, РҝР»РҫРҙСӢ С…Р»РөРұРҪРҫРіРҫ РҙРөСҖРөРІР°, РұР°РҪР°РҪСӢ Рё СӮ.Рҝ. Р’СҒР»РөРҙ Р·Р° РҪРёРјРё РҝРҫРҙРҝР»СӢР» Р°РҪглиСҮР°РҪРёРҪ, РҪР° РәРҫСӮРҫСҖРҫРј СӮР°Рә Р¶Рө, РәР°Рә Рё РҪР° СӮСғР·РөРјСҶах, РәСҖРҫРјРө РҝРҫСҸСҒР°, РҪРёРәР°РәРҫР№ РҫРҙРөР¶РҙСӢ РҪРө РұСӢР»Рҫ. РһРҪ РұСӢР» Р¶РөРҪР°СӮ РҪР° СӮСғР·РөРјРәРө Рё СғР¶Рө 7 Р»РөСӮ жил РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІРө. Р§РөСҖРөР· РҪРөРіРҫ, РәР°Рә СӮРҫлмаСҮР°, РҪР°СҮалаСҒСҢ РҫживлРөРҪРҪР°СҸ РјРөРҪРҫРІР°СҸ СӮРҫСҖРіРҫРІР»СҸ; СӮСғР·РөРјСҶСӢ РұСӢли РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РҝР°РҙРәРё РҪР° РёР·РҙРөлиСҸ РёР· РјРөСӮаллРҫРІ.
Р—Р°СӮРөРј РҪР° РәРҫСҖР°РұР»СҢ РҝСҖРёРұСӢР» СҒам РәРҫСҖРҫР»СҢ РқСғРәР°-ГивСӢ РўР°РҪРөРіР° РҡРөСӮСӮРҫРҪРҫРІРө, СҮРөР»РҫРІРөРә Р»РөСӮ 45-СӮРё, СӮРөРјРҪРҫРәРҫжий, СҒРёР»СҢРҪСӢР№ Рё РұлагРҫРҫРұСҖазРҪСӢР№. РқР° РҪРөРј СӮР°РәР¶Рө РҪРёСҮРөРіРҫ, РәСҖРҫРјРө РҝРҫСҸСҒР°, РҪРө РұСӢР»Рҫ, РҪРҫ РҫРҪ РұСӢР» СӮР°СӮСғРёСҖРҫРІР°РҪ СҒ РіРҫР»РҫРІСӢ РҙРҫ РҪРҫРі. РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ Р·Р°РұавлСҸР»СҒСҸ СӮРөРј, СҮСӮРҫ Р·Р°СҒСӮавлСҸР» РәРҫСҖРҫР»СҸ РёСҒРҝРҫР»РҪСҸСӮСҢ РҙРҫлжРҪРҫСҒСӮСҢ СҒРҫРұР°РәРё: РҝРҫРҝР»СҺРөСӮ РҪР° СүРөРҝРәСғ, Р·Р°РәРёРҪРөСӮ РІ РјРҫСҖРө Рё РәСҖРёРәРҪРөСӮ: РҝРёР»СҢ, Р°РҝРҫСҖСӮ! РҡРҫСҖРҫР»СҢ Рҝлавал Р·Р° СүРөРҝРәРҫР№, СҒС…РІР°СӮСӢвал РөРө Р·СғРұами Рё РҝСҖРөРҝРҫРҙРҪРҫСҒРёР» РўРҫР»СҒСӮРҫРјСғ *.
* РҡамРөРҪСҒРәР°СҸ, СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°СҸ СҚСӮРҫСӮ Р°РҪРөРәРҙРҫСӮ, РҫСӮРҪРҫСҒРёСӮ РөРіРҫ Рә РәРҫСҖРҫР»СҺ РЎР°РҪРҙРІРёСҮРөРІСӢС… (ГавайСҒРәРёС…) РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ, РҪРҫ СҚСӮРҫРіРҫ РҪРө РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, РҝРҫСӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ "РқР°РҙРөР¶РҙР°" СҒСӮРҫСҸла Сғ ГавайСҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ РҫСҮРөРҪСҢ РҪРөРҙРҫлгРҫРө РІСҖРөРјСҸ, Рё РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РҪРё Рҫ РәР°РәРҫРј РәРҫСҖРҫР»Рө СҚСӮРёС… РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ РҪРө СғРҝРҫРјРёРҪР°РөСӮ.
Р’ РҫРҙРёРҪ РёР· СҒР»РөРҙСғСҺСүРёС… РҙРҪРөР№ РұРҫР»РөРө СҒСӮР° Р¶РөРҪСүРёРҪ СҒСӮали РҝлаваСӮСҢ РІРҫРәСҖСғРі РәРҫСҖР°РұР»СҸ Рё, РҝРёСҲРөСӮ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ, "СғРҝРҫСӮСҖРөРұР»СҸли РІСҒРө РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІР°, РәР°Рә РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРёРө РІ СӮРҫРј РјР°СҒСӮРөСҖРёСҶСӢ, Рә РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪРёСҺ РҪамРөСҖРөРҪРёСҸ РёС… РҝРҫСҒРөСүРөРҪРёСҸ". РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РҝСғСҒСӮРёР» РёС… РҪР° РҙРІР° РҙРҪСҸ РҪР° РәРҫСҖР°РұР»СҢ. РһСҮРөРІРёРҙРҪРҫ, РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҪРө РҝСҖРөРјРёРҪСғР» РІРҫСҒРҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮСҢСҒСҸ РёС… РІРёР·РёСӮРҫРј. РҡР°Рә РҝРҫСӮРҫРј РҫРәазалРҫСҒСҢ, СҚСӮРё Р¶РөРҪСүРёРҪСӢ РұСӢли РҝРҫСҒлаРҪСӢ РёС… РҫСӮСҶами Рё РјСғР¶СҢСҸРјРё РҙР»СҸ СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫРұСӢ РҝСҖРёРҫРұСҖРөСҒСӮРё РәСғСҒРәРё Р¶РөР»РөР·Р°, РјР°СӮРөСҖРёРё Рё СӮ.Рҙ.
РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РҪР° РәР°СӮРөСҖРө РҫСӮРҝСҖавилСҒСҸ РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІ Рё РҫСӮРҙал РІРёР·РёСӮ РәРҫСҖРҫР»СҺ. ЕгРҫ РІСҒСӮСҖРөСӮРёР» РҙСҸРҙСҸ РәРҫСҖРҫР»СҸ, СҒСӮР°СҖРёРә Р»РөСӮ 75-СӮРё, РҪРҫ СҒРёР»СҢРҪСӢР№ Рё Р·РҙРҫСҖРҫРІСӢР№. РһРҪ РөРіРҫ РҝРҫРІРөР» РҪР° СғСҮР°СҒСӮРҫРә Р·Рөмли, РҫСӮРІРөРҙРөРҪРҪСӢР№ РәРҫСҖРҫР»СҺ, РәСғРҙР° СӮРҫР»РҝР° Р»СҺРұРҫРҝСӢСӮРҪСӢС… СӮСғР·РөРјСҶРөРІ, СҒР»РөРҙРҫвавСҲРёС… Р·Р° РөРІСҖРҫРҝРөР№СҶами, РҪРө РҝРҫСҒРјРөла РІРҫР№СӮРё; СҚСӮРҫСӮ СғСҮР°СҒСӮРҫРә РұСӢР» Р·Р°РҝРҫРІРөРҙРҪСӢР№ - СӮР°РұСғ. РҡРҫСҖРҫР»СҢ РұСӢР» РіРҫСҒСӮРөРҝСҖРёРёРјРөРҪ, Р° РҙРҫСҮСҢ РөРіРҫ РәСҖР°СҒРёРІР° РҙажРө СҒ РөРІСҖРҫРҝРөР№СҒРәРҫР№ СӮРҫСҮРәРё Р·СҖРөРҪРёСҸ.
РқР° РҫСҒСӮСҖРҫРІРө РҫРәазалаСҒСҢ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ СҖРҫРҙР° РәСғР»СҢСӮСғСҖР°: РҫРіРҫСҖРҫРҙСӢ, СҲРөР»РәРҫРІРёСҮРҪСӢРө РҙРөСҖРөРІСҢСҸ, РұР°РҪР°РҪРҫРІСӢРө РҝалСҢРјСӢ, СӮР°СҖРҫ, Р»РөСҒР° РәРҫРәРҫСҒРҫРІСӢС… Рё С…Р»РөРұРҪСӢС… РҙРөСҖРөРІ. РўРөРј РҪРө РјРөРҪРөРө РҪСғРәагивСҶСӢ РұСӢли Р»СҺРҙРҫРөРҙами. РһРҪРё РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РІРҫРөвали СҒ СҒРҫСҒРөРҙРҪРёРјРё РҫСҒСӮСҖРҫРІРёСӮСҸРҪами Рё СҒСҠРөРҙали СғРұРёСӮСӢС… Рё РҝР»РөРҪРҪСӢС…. Р•СҒСӮРөСҒСӮРІРҫРёСҒРҝСӢСӮР°СӮРөР»СҢ РўРёР»РөР·РёСғСҒ Р·Р°РҝРёСҒал СҒР»РҫРІР° Рё РјСғР·СӢРәСғ РҫРҙРҪРҫР№ РҝРөСҒРҪРё РҪСғРәагивСҶРөРІ, РІРҫСҒРҝРөРІР°СҺСүСғСҺ РҝРөСҮалСҢ СҖРҫРҙСҒСӮРІРөРҪРҪРёРәРҫРІ СҒСҠРөРҙРөРҪРҪРҫРіРҫ РјСғР¶СҮРёРҪСӢ. РӯСӮР° РҝРөСҒРҪСҸ РҝРөлаСҒСҢ РҪР° С…СҖРҫРјР°СӮРёСҮРөСҒРәРҫРј glissando РІРІРөСҖС… Рё РІРҪРёР· РІ РҝСҖРөРҙРөлах малРҫР№ СӮРөСҖСҶРёРё. Р’ СҒСғСүРҪРҫСҒСӮРё СҚСӮРҫ РұСӢР» РјСҖР°СҮРҪСӢР№ РІРҫР№, Р° РҪРө РҝРөСҒРҪСҸ.
Р’ РҝСҖРҫРҙРҫлжРөРҪРёРө РІСҒРөР№ СҒСӮРҫСҸРҪРәРё "РқР°РҙРөР¶РҙСӢ" Сғ РҫСҒСӮСҖРҫРІР° РҫРҙРёРҪ РҪСғРәагивРөСҶ РҪахРҫРҙРёР» РҙР»СҸ СҒРөРұСҸ РјРҪРҫРіРҫ СҖР°РұРҫСӮСӢ РҪР° РәРҫСҖР°РұР»Рө. РҹРҫСҮСӮРё РәажРҙСӢР№ РёР· РәРҫСҖР°РұРөР»СҢРҪСӢС… СҒР»СғжиСӮРөР»РөР№ РҝСҖиглаСҲал РөРіРҫ СҒРҙРөлаСӮСҢ РәР°РәРҫР№-лиРұРҫ СғР·РҫСҖ РҪР° СҒРІРҫРөРј СӮРөР»Рө. РўРҫРіРҙР° Р¶Рө, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, РұСӢР» СӮР°СӮСғРёСҖРҫРІР°РҪ Рё РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ.
РқР° РқСғРәР°-ГивРө, РәСҖРҫРјРө Р°РҪглиСҮР°РҪРёРҪР°, жил СӮР°РәР¶Рө СғР¶Рө РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ Р»РөСӮ РҫРҙРёРҪ С„СҖР°РҪСҶСғР·; РҫРҪ РІСҖажРҙРҫвал СҒ Р°РҪглиСҮР°РҪРёРҪРҫРј Рё, РҝРҫ СҒР»Рҫвам РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР°, СҒРҫРІСҒРөРј РҫРҙРёСҮал. РһРҪ РҙажРө РҫС…РҫСӮРёР»СҒСҸ РҪР° РІСҖагРҫРІ СӮРҫР№ РҫРұСүРёРҪСӢ СӮСғР·РөРјСҶРөРІ, СҒСҖРөРҙРё РәРҫСӮРҫСҖСӢС… жил, РҪРҫ СғРІРөСҖСҸР» РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР°, СҮСӮРҫ СҒам РҪРө РөР» СҮРөР»РҫРІРөСҮРөСҒРәРҫРіРҫ РјСҸСҒР°. РӯСӮРҫСӮ "РҙРёРәРҫР№ С„СҖР°РҪСҶСғР·", РәР°Рә РөРіРҫ РҪазСӢРІР°РөСӮ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ, захРҫСӮРөР» РІРөСҖРҪСғСӮСҢСҒСҸ РҪР° СҖРҫРҙРёРҪСғ Рё РұСӢР» РІР·СҸСӮ РҪР° РұРҫСҖСӮ "РқР°РҙРөР¶РҙСӢ" СҒ СӮРөРј, СҮСӮРҫРұСӢ РөРіРҫ РІСӢСҒР°РҙРёСӮСҢ РІ РҡамСҮР°СӮРәРө.
РЈ РқСғРәР°-ГивСӢ "РқРөРІР°" РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪилаСҒСҢ Рә "РқР°РҙРөР¶РҙРө", Рё РҫРұР° РәРҫСҖР°РұР»СҸ РҪР°РҝСҖавилиСҒСҢ Рә РЎР°РҪРҙРІРёСҮРөРІСӢРј (ГавайСҒРәРёРј) РҫСҒСӮСҖРҫвам. "РқР°РҙРөР¶РҙР°" РҙРІР° РҙРҪСҸ РҙРөСҖжалаСҒСҢ РҫРәРҫР»Рҫ РҫСҒСӮСҖРҫРІР° Рһвага Рё Р»Рөгла РҪР° РҙСҖРөР№С„ РҫРәРҫР»Рҫ РҫРҙРҪРҫРіРҫ РұРҫР»СҢСҲРҫРіРҫ СҒРөР»РөРҪРёСҸ. ГавайСҶСӢ РҝРҫРҙРҝР»СӢвали Рә РәРҫСҖР°РұР»СҺ Рё Р·РҙРөСҒСҢ, СӮР°Рә Р¶Рө, РәР°Рә Рё РІ РқСғРәР°-ГивРө, РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙила РјРөРҪРҫРІР°СҸ СӮРҫСҖРіРҫРІР»СҸ. Р—РҙРөСҒСҢ РәРҫСҖР°Рұли СҖР°СҒСҒСӮалиСҒСҢ, Рё РҪР°РҙРҫлгРҫ *. "РқРөРІР°" РҫСӮРҝР»СӢла Рә РҡР°СҖР°РәРҫР° Рё Рә СҖСғСҒСҒРәРёРј амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёРј РәРҫР»РҫРҪРёСҸРј, Р° "РқР°РҙРөР¶РҙР°" РҝРҫСҲла РҝСҖСҸРјРҫ РІ РҡамСҮР°СӮРәСғ Рё СҮРөСҖРөР· 35 РҙРҪРөР№, 14 РёСҺРҪСҸ 1804 РіРҫРҙР°, РІРҫСҲла РІ РҡамСҮР°СӮСҒРәРёР№ РҝРҫСҖСӮ СҒРІ. РҹРөСӮСҖР° Рё Рҹавла. РЎРҫ РҙРҪСҸ РҫСӮРҝР»СӢСӮРёСҸ РёР· РҡСҖРҫРҪСҲСӮР°РҙСӮР° РҝСҖРҫСҲР»Рҫ РұРҫР»РөРө 11 РјРөСҒСҸСҶРөРІ.
* "РқРөРІР°" РҝСҖРёСҒРҫРөРҙРёРҪилаСҒСҢ Рә "РқР°РҙРөР¶РҙРө" РІ РңР°РәР°Рҫ 21 РҪРҫСҸРұСҖСҸ 1805 Рі., СӮ.Рө. СҮРөСҖРөР· РҝРҫР»СӮРҫСҖР° РіРҫРҙР°.
РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РІ РҫРҝРёСҒР°РҪРёРё СҒРІРҫРөРіРҫ РҝлаваРҪРёСҸ РҝРёСҲРөСӮ, СҮСӮРҫ РІРҫ РІСҖРөРјСҸ РҝСҖРөРұСӢРІР°РҪРёСҸ СҚРәСҒРҝРөРҙРёСҶРёРё РІ РҡамСҮР°СӮРәРө РІ СҒРІРёСӮРө РҝРҫСҒлаРҪРҪРёРәР° Р РөР·Р°РҪРҫРІР° РҝСҖРҫРёР·РҫСҲла РҝРөСҖРөРјРөРҪР°: "РҹРҫСҖСғСҮРёРә РіРІР°СҖРҙРёРё РіСҖаф РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РҙРҫРәСӮРҫСҖ РҝРҫСҒРҫР»СҢСҒСӮРІР° Р‘СҖРёРҪРәРөРҪ Рё живРҫРҝРёСҒРөСҶ РҡСғСҖР»СҸРҪРҙСҶРөРІ РҫСҒСӮавили РәРҫСҖР°Рұли Рё РҫСӮРҝСҖавилиСҒСҢ РІ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі СҒСғС…РёРј РҝСғСӮРөРј". РҹСҖРёРҪСҸСӮСӢ РІРҪРҫРІСҢ РәавалРөСҖами РҝРҫСҒРҫР»СҢСҒСӮРІР° РәР°РҝРёСӮР°РҪ РӨРөРҙРҫСҖРҫРІ Рё РҝРҫСҖСғСҮРёРә РҡРҫСҲРөР»РөРІ.
РўР°РәРҫРІР° РҫфиСҶиалСҢРҪР°СҸ РІРөСҖСҒРёСҸ. РһРҙРҪР°РәРҫ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, СҮСӮРҫ РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҝРҫРәРёРҪСғР» "РқР°РҙРөР¶РҙСғ" РҪРө РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢРҪРҫ, Р° РұСӢР» СғРҙалРөРҪ СҒ РҪРөРө РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖРҫРј Р·Р° СҒРІРҫРө РҪРөРІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫРө РҝРҫРІРөРҙРөРҪРёРө, Рё РҝРҫ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢРј РҙР°РҪРҪСӢРј РјРҫР¶РҪРҫ Р·Р°РәР»СҺСҮРёСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РұСӢР» РІСӢСҒажРөРҪ РҪРө РІ РҡамСҮР°СӮРәРө, Р° РҪР° РәР°РәРҫРј-СӮРҫ РҫСҒСӮСҖРҫРІРө.
РҳР· СҒРҝРёСҒРәР° лиСҶ, РҫСӮРҝСҖавивСҲРёС…СҒСҸ РІ РҝлаваРҪРёРө, РІРёРҙРҪРҫ, СҮСӮРҫ РјРөР¶РҙСғ РҪРёРјРё РұСӢР»Рҫ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҮРөР»РҫРІРөРә, РәРҫСӮРҫСҖСӢРј РҪР° РәРҫСҖР°РұР»СҸС… РҪРөСҮРөРіРҫ РұСӢР»Рҫ РҙРөлаСӮСҢ; РІ СҮРёСҒР»Рө СҚСӮРёС… РҝСҖазРҙРҪСӢС… Р»СҺРҙРөР№ РұСӢР» РўРҫР»СҒСӮРҫР№. РңРөР¶РҙСғ СӮРөРј РөРіРҫ РұСғР№РҪСӢР№ РҪСҖав СӮСҖРөРұРҫвал РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮРё, Рё РөРіРҫ РҙРөСҸСӮРөР»СҢРҪРҫСҒСӮСҢ РҝСҖРҫСҸвилаСҒСҢ - РІ Р·Р»РҫРІСҖРөРҙРҪСӢС… СҲалРҫСҒСӮСҸС…. РҹСҖРҫ РөРіРҫ РҝРҫРІРөРҙРөРҪРёРө РҪР° РәРҫСҖР°РұР»Рө Рё РөРіРҫ РІСӢСҒР°РҙРәСғ СҒСғСүРөСҒСӮРІСғРөСӮ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ. РӯСӮРё СҖР°СҒСҒРәазСӢ РҙРҫРІРҫР»СҢРҪРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҖРөСҮРёРІСӢ, Рё РёР· РҪРёС… РҪРөР»СҢР·СҸ СҒ РҙРҫСҒСӮРҫРІРөСҖРҪРҫСҒСӮСҢСҺ Р·Р°РәР»СҺСҮРёСӮСҢ, РәРөРј Рё РәСғРҙР° РҫРҪ РұСӢР» РІСӢСҒажРөРҪ РҪР° РұРөСҖРөРі.
Р’РҫСӮ СҮСӮРҫ СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°РөСӮ РөРіРҫ РҙРІРҫСҺСҖРҫРҙРҪР°СҸ РҝР»РөРјСҸРҪРҪРёСҶР° Рң.РӨ. РҡамРөРҪСҒРәР°СҸ, лиСҮРҪРҫ РөРіРҫ Р·РҪавСҲР°СҸ.
"РқР° РәРҫСҖР°РұР»Рө РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҝСҖРёРҙСғРјСӢвал РҪРөРҝРҫР·РІРҫлиСӮРөР»СҢРҪСӢРө СҲалРҫСҒСӮРё. РЎРҪР°СҮала РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ СҒРјРҫСӮСҖРөР» РҪР° РҪРёС… СҒРәРІРҫР·СҢ РҝалСҢСҶСӢ, РҪРҫ РҝРҫСӮРҫРј РҝСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ СҒажаСӮСҢ РөРіРҫ РҝРҫРҙ Р°СҖРөСҒСӮ. РқРҫ Р·Р° РәажРҙРҫРө РҪР°РәазаРҪРёРө РҫРҪ РҝлаСӮРёР» РҪР°СҮалСҢСҒСӮРІСғ РҪРҫРІСӢРјРё РІСӢС…РҫРҙРәами, РҫРҪ РҝРөСҖРөСҒСҒРҫСҖРёР» РІСҒРөС… РҫфиСҶРөСҖРҫРІ Рё РјР°СӮСҖРҫСҒРҫРІ, РҙР° РәР°Рә РҝРөСҖРөСҒСҒРҫСҖРёР»! РҘРҫСӮСҢ СҒРөР№СҮР°СҒ Р¶Рө РҪР° РҪРҫжи! Р’СҒСҸРәСғСҺ РјРёРҪСғСӮСғ РјРҫРіР»Рҫ РҝСҖРҫРёР·РҫР№СӮРё РҪРөСҒСҮР°СҒСӮСҢРө, Р° РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҝРҫСӮРёСҖал СҒРөРұРө СҖСғРәРё. РЎСӮР°СҖРёСҮРҫРә РәРҫСҖР°РұРөР»СҢРҪСӢР№ СҒРІСҸСүРөРҪРҪРёРә РұСӢР» СҒлаРұ РҪР° РІРёРҪРҫ. РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҪР°РҝРҫРёР» РөРіРҫ РҙРҫ СҒР»РҫР¶РөРҪРёСҸ СҖРёР· Рё, РәРҫРіРҙР° СҒРІСҸСүРөРҪРҪРёРә РәР°Рә РјРөСҖСӮРІСӢР№ Р»Рөжал РҪР° РҝалСғРұРө, РҝСҖРёРҝРөСҮР°СӮал РөРіРҫ РұРҫСҖРҫРҙСғ СҒСғСҖРіСғСҮРҫРј Рә РҝРҫР»Сғ РәазРөРҪРҪРҫР№ РҝРөСҮР°СӮСҢСҺ, СғРәСҖР°РҙРөРҪРҪРҫР№ Сғ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР°. РҹСҖРёРҝРөСҮР°СӮал Рё СҒРёРҙРөР» РҪР°Рҙ РҪРёРј; Р° РәРҫРіРҙР° СҒРІСҸСүРөРҪРҪРёРә РҝСҖРҫСҒРҪСғР»СҒСҸ Рё С…РҫСӮРөР» РҝСҖРёРҝРҫРҙРҪСҸСӮСҢСҒСҸ, РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РәСҖРёРәРҪСғР»: В«РӣРөжи, РҪРө СҒРјРөР№! Р’РёРҙРёСҲСҢ, РәазРөРҪРҪР°СҸ РҝРөСҮР°СӮСҢ!В» РҹСҖРёСҲР»РҫСҒСҢ РұРҫСҖРҫРҙСғ РҝРҫРҙСҒСӮСҖРёСҮСҢ РҝРҫРҙ СҒамСӢР№ РҝРҫРҙРұРҫСҖРҫРҙРҫРә".
"РқР° РәРҫСҖР°РұР»Рө РұСӢР» Р»РҫРІРәРёР№, СғРјРҪСӢР№ Рё РҝРөСҖРөРёРјСҮРёРІСӢР№ РҫСҖР°РҪРіСғСӮР°РҪРі. Раз, РәРҫРіРҙР° РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РҫСӮРҝР»СӢР» РҪР° РәР°СӮРөСҖРө РәСғРҙР°-СӮРҫ РҪР° РұРөСҖРөРі, РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Р·Р°СӮР°СүРёР» РҫСҖР°РҪРіСғСӮР°РҪРіР° РІ РөРіРҫ РәР°СҺСӮСғ, РҫСӮРәСҖСӢР» СӮРөСӮСҖР°РҙРё СҒ РөРіРҫ Р·Р°РҝРёСҒРәами, РҝРҫР»Рҫжил РёС… РҪР° СҒСӮРҫР», СҒРІРөСҖС…Сғ РҝРҫР»Рҫжил лиСҒСӮ СҮРёСҒСӮРҫР№ РұСғмаги Рё РҪР° глазах РҫРұРөР·СҢСҸРҪСӢ СҒСӮал РјР°СҖР°СӮСҢ Рё РҝРҫливаСӮСҢ СҮРөСҖРҪилами РұРөР»СӢР№ лиСҒСӮ... РһРұРөР·СҢСҸРҪР° РІРҪРёРјР°СӮРөР»СҢРҪРҫ СҒРјРҫСӮСҖРөла. РўРҫРіРҙР° РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ СҒРҪСҸР» СҒ Р·Р°РҝРёСҒРҫРә замазаРҪРҪСӢР№ лиСҒСӮ, РҝРҫР»Рҫжил РөРіРҫ СҒРөРұРө РІ РәР°СҖРјР°РҪ Рё РІСӢСҲРөР» РёР· РәР°СҺСӮСӢ. РһСҖР°РҪРіСғСӮР°РҪРі, РҫСҒСӮавСҲРёСҒСҢ РҫРҙРёРҪ, СӮР°Рә СғСҒРөСҖРҙРҪРҫ СҒСӮал РҝРҫРҙСҖажаСӮСҢ РӨРөРҙРҫСҖСғ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮСғ, СҮСӮРҫ СғРҪРёСҮСӮРҫжил РІСҒРө Р·Р°РҝРёСҒРё РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР°. Р—Р° СҚСӮРҫ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РІСӢСҒР°РҙРёР» РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РҪР° РәР°РәРҫР№-СӮРҫ малРҫРёР·РІРөСҒСӮРҪСӢР№ РҫСҒСӮСҖРҫРІ Рё СҒРөР№СҮР°СҒ Р¶Рө РҫСӮРҝР»СӢР». РЎСғРҙСҸ РҝРҫ СҖР°СҒСҒРәазам РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР°, РҫРҪ Рё РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІРө РҝСҖРҫРҙРҫлжал РұРөРҙРҫРәСғСҖРёСӮСҢ, живСҸ СҒ РҙРёРәР°СҖСҸРјРё, РҝРҫРәР° РәР°РәРҫР№-СӮРҫ РұлагРҫРҙРөСӮРөР»СҢРҪСӢР№ РәРҫСҖР°РұР»СҢ РҪРө РҝРҫРҙРҫРұСҖал РөРіРҫ - СӮР°СӮСғРёСҖРҫРІР°РҪРҪРҫРіРҫ СҒ РіРҫР»РҫРІСӢ РҙРҫ РҪРҫРі".
"РһРҪ СҖР°СҒСҒРәазСӢвал, СҮСӮРҫ РІРҫ РІСҖРөРјСҸ РөРіРҫ РҝСҖРөРұСӢРІР°РҪРёСҸ РІ РҗРјРөСҖРёРәРө, РәРҫРіРҙР° РҫРҪ РұСӢР» РҪР° СҲаг РҫСӮ РҝСҖРҫРҝР°СҒСӮРё, РөРјСғ СҸРІРёР»РҫСҒСҢ Р»СғСҮРөР·Р°СҖРҪРҫРө РІРёРҙРөРҪРёРө СҒРІСҸСӮРҫРіРҫ, РҫСҒР°РҙРёР»Рҫ РөРіРҫ РҪазаРҙ, Рё РҫРҪ РұСӢР» СҒРҝР°СҒРөРҪ. ЗаглСҸРҪСғРІ РІ РёРј СҒамим СғСҒСӮСҖРҫРөРҪРҪСӢР№ РәалРөРҪРҙР°СҖСҢ, РҫРҪ СғРІРёРҙРөР», СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РҝСҖРҫРёР·РҫСҲР»Рҫ 12 РҙРөРәР°РұСҖСҸ. Р—РҪР°СҮРёСӮ, СҒРІСҸСӮРҫР№, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РөРіРҫ СҒРҝР°СҒ, РұСӢР» СҒРІ. РЎРҝРёСҖРёРҙРҫРҪРёР№, РҝР°СӮСҖРҫРҪ РІСҒРөС… РіСҖафРҫРІ РўРҫР»СҒСӮСӢС…. РЎ СӮРөС… РҝРҫСҖ РҫРҪ Р·Р°Рәазал СҒРөРұРө РҫРұСҖаз СҒРІ. РЎРҝРёСҖРёРҙРҫРҪРёСҸ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РҪРҫСҒРёР» РҪР° РіСҖСғРҙРё".
Р”.Р’.Р“СҖСғРҙРөРІ РҝРөСҖРөРҙР°РөСӮ СӮР°РәРҫР№ СҖР°СҒСҒРәаз:
"РқР° РәРҫСҖР°РұР»Рө РҪР°РәР»РҫРҪРҪРҫСҒСӮРё РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ СҒРәРҫСҖРҫ РҫРұРҪР°СҖСғжилиСҒСҢ, Рё РҫРҪ СӮР°РәСғСҺ СҖазвРөР» РёРіСҖСғ Рё РҝРёСӮСҢРө, СҮСӮРҫ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ СҖРөСҲРёР» РҫСӮ РҪРөРіРҫ РҫСӮРҙРөлаСӮСҢСҒСҸ. РЎРҙРөлаРҪР° РұСӢла РҫСҒСӮР°РҪРҫРІРәР° РҪР° РҗР»РөСғСӮСҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫвах, РІСҒРө СҒРҫСҲли Рё СҖазРұСҖРөлиСҒСҢ РҝРҫ РұРөСҖРөРіСғ. РЎРёРіРҪал Рә РҫСӮСҠРөР·РҙСғ РұСӢР» РҝРҫРҙР°РҪ РәР°Рә-СӮРҫ РҪРөРҫжиРҙР°РҪРҪРҫ; РІСҒРө СҒРҫРұСҖалиСҒСҢ Рё РҫСӮРҝР»СӢли, РәР°Рә РұСӢ РҪРө РҪайРҙСҸ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ. РҹСҖРё РҪРөРј РұСӢла РҫРұРөР·СҢСҸРҪР°; СҒ РҪРөСҺ РҫРҪ РҝРҫСҲРөР» РіСғР»СҸСӮСҢ, Р° РҝРҫСӮРҫРј СҖР°СҒСҒРәазСӢвал РҙР»СҸ СҒРјРөС…Р°, СҮСӮРҫ РҝРөСҖРІСӢРө РҙРҪРё СҒРІРҫРөРіРҫ РҫРҙРёРҪРҫСҮРөСҒСӮРІР° РҫРҪ РҝРёСӮалСҒСҸ СҒРІРҫРөР№ РҫРұРөР·СҢСҸРҪРҫР№" *.
* РҳР· СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ Р”.Р’. Р“СҖСғРҙРөРІР° // Р СғСҒСҒРәРёР№ Р°СҖС…РёРІ, 1898. в„– 2.
РқРҫРІРҫСҒРёР»СҢСҶРөРІР° РІ СҒРІРҫРёС… РҪРө РІСҒРөРіРҙР° РҙРҫСҒСӮРҫРІРөСҖРҪСӢС… СҖР°СҒСҒРәазах, СҒР»СӢСҲР°РҪРҪСӢС… РөСҺ РҫСӮ РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҸ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РқР°СүРҫРәРёРҪР°, РіРҫРІРҫСҖРёСӮ:
"РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РІСӢСҒР°РҙРёР» РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІ, РҫСҒСӮавил РөРјСғ РҪР° РІСҒСҸРәРёР№ СҒР»СғСҮай РҪРөРјРҪРҫРіРҫ РҝСҖРҫРІРёР°РҪСӮР°. РҡРҫРіРҙР° РәРҫСҖР°РұР»СҢ СӮСҖРҫРҪСғР»СҒСҸ, РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҒРҪСҸР» СҲР»СҸРҝСғ Рё РҝРҫРәР»РҫРҪРёР»СҒСҸ РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖСғ, СҒСӮРҫСҸРІСҲРөРјСғ РҪР° РҝалСғРұРө. РһСҒСӮСҖРҫРІ РҫРәазалСҒСҸ РҪР°СҒРөР»РөРҪРҪСӢРј РҙРёРәР°СҖСҸРјРё. РЎСҖРөРҙРё РҪРёС… РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҝСҖРҫжил РҙРҫРІРҫР»СҢРҪРҫ РҙРҫлгРҫ. РҡРҫРіРҙР°, РұСҖРҫРҙСҸ РҝРҫ РјРҫСҖСҒРәРҫРјСғ РұРөСҖРөРіСғ, РҫРҪ СғРІРёРҙРөР» РҪР° СҒРІРҫРө СҒСҮР°СҒСӮСҢРө РәРҫСҖР°РұР»СҢ, СҲРөРҙСҲРёР№ РІРұлизи, РҫРҪ зажРөРі РәРҫСҒСӮРөСҖ. РӯРәРёРҝаж СғРІРёРҙРөР» СҒРёРіРҪал, РҝСҖРёСҮалил Рё РҝСҖРёРҪСҸР» РөРіРҫ".
ДалРөРө РқРҫРІРҫСҒРёР»СҢСҶРөРІР° РҝРёСҲРөСӮ, СҮСӮРҫ РІ РҙРөРҪСҢ СҒРІРҫРөРіРҫ РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёСҸ РІ Р РҫСҒСҒРёСҺ РўРҫР»СҒСӮРҫР№, СғР·РҪав, СҮСӮРҫ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РІ СҚСӮРҫСӮ РҙРөРҪСҢ РҙР°РөСӮ Рұал, СҸРІРёР»СҒСҸ Рә РҪРөРјСғ Рё РұлагРҫРҙР°СҖРёР» РөРіРҫ Р·Р° СӮРҫ, СҮСӮРҫ РІРөСҒРөР»Рҫ РҝСҖРҫРІРөР» РІСҖРөРјСҸ РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІРө.
Р”РҫСҮСҢ РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР°, Рҹ.РӨ. РҹРөСҖфилСҢРөРІР°, РІ СҒРІРҫРёС… РІРҫР·СҖажРөРҪРёСҸС… РҪР° РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёСҸ РқРҫРІРҫСҒРёР»СҢСҶРөРІРҫР№ РҫСӮСҖРёСҶР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РөРө РҫСӮРөСҶ РҝСҖСҸРјРҫ СҒ РҙРҫСҖРҫРіРё РҝРҫРҝал РҪР° Рұал Рә РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪСғ, - РҫРҪ Рё РҪРө РјРҫРі СҚСӮРҫРіРҫ СҒРҙРөлаСӮСҢ, РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ РІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ РІ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі СҖР°РҪСҢСҲРө РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР°, - РҪРҫ РҫРҪР° РҪРө РІРҫР·СҖажаРөСӮ РҝСҖРҫСӮРёРІ СҖР°СҒСҒРәаза РқРҫРІРҫСҒРёР»СҢСҶРөРІРҫР№ Рҫ РІСӢСҒР°РҙРәРө РөРіРҫ РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІ. РЎР»РөРҙРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫ, РјРҫР¶РҪРҫ РҝСҖРөРҙРҝРҫлагаСӮСҢ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РІРөСҖРҪРҫ.
Р’РёРіРөР»СҢ СҒР»СӢСҲал, СҮСӮРҫ РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РұСӢР» РІСӢСҒажРөРҪ РІ РҡамСҮР°СӮРәРө, РҪРҫ РҫРҪ РјРҫРі Р·РҪР°СӮСҢ РҫРҙРҪСғ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫфиСҶиалСҢРҪСғСҺ РІРөСҖСҒРёСҺ.
Р‘СғлгаСҖРёРҪ РҝРёСҲРөСӮ:
"Р’РјРөСҲавСҲРёСҒСҢ РІ СҒРҝРҫСҖ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР° СҒ РәР°РҝРёСӮР°РҪРҫРј РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРёРј, РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҙРҫРІРөР» РҙРҫРұСҖРҫРіРҫ Рё СҒРәСҖРҫРјРҪРҫРіРҫ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР° РҙРҫ СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ СӮРҫСӮ РұСӢР» РІСӢРҪСғР¶РҙРөРҪ РҫСҒСӮавиСӮСҢ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РІ РҪР°СҲРёС… РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёС… РәРҫР»РҫРҪРёСҸС…, Рё РҪРө РІР·СҸР» РөРіРҫ СҒ СҒРҫРұРҫСҺ РҪР° РҫРұСҖР°СӮРҪРҫРј РҝСғСӮРё РІ Р РҫСҒСҒРёСҺ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҝСҖРҫРұСӢР» РҪРөРәРҫСӮРҫСҖРҫРө РІСҖРөРјСҸ РІ РҗРјРөСҖРёРәРө, РҫРұСҠРөР·РҙРёР» РҫСӮ СҒРәСғРәРё РҗР»РөСғСӮСҒРәРёРө РҫСҒСӮСҖРҫРІР°, РҝРҫСҒРөСӮРёР» РҙРёРәРёРө РҝР»РөРјРөРҪР° РҡРҫР»РҫСҲРөР№, СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРјРё С…РҫРҙРёР» РҪР° РҫС…РҫСӮСғ, Рё РІРҫР·РІСҖР°СӮРёР»СҒСҸ СҮРөСҖРөР· РҹРөСӮСҖРҫРҝавлРҫРІСҒРәРёР№ РҝРҫСҖСӮ СҒСғС…РёРј РҝСғСӮРөРј РІ Р РҫСҒСҒРёСҺ. РЎ СҚСӮРёС… РҝРҫСҖ РөРіРҫ РҝСҖРҫзвали РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҶРөРј. Р”РҫРјР° РҫРҪ РҫРҙРөвалСҒСҸ РҝРҫ-алРөСғСӮСҒРәРё, Рё СҒСӮРөРҪСӢ РөРіРҫ РұСӢли СғРІРөСҲР°РҪСӢ РҫСҖСғжиРөРј Рё РҫСҖСғРҙРёСҸРјРё РҙРёРәР°СҖРөР№, РҫРұРёСӮР°СҺСүРёС… РҝРҫ СҒРҫСҒРөРҙСҒСӮРІСғ СҒ РҪР°СҲРёРјРё РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёРјРё РәРҫР»РҫРҪРёСҸРјРё... РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҖР°СҒСҒРәазСӢвал, СҮСӮРҫ РҡРҫР»РҫСҲРё РҝСҖРөРҙлагали РөРјСғ РұСӢСӮСҢ РёС… СҶР°СҖРөРј".
РҳР· СҒРҫРҝРҫСҒСӮавлРөРҪРёСҸ РІСӢСҲРөРҝСҖРёРІРөРҙРөРҪРҪСӢС… СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ СҒ РҫРҝРёСҒР°РҪРёСҸРјРё РҝлаваРҪРёР№ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР° Рё РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРҫРіРҫ РјРҫР¶РҪРҫ СҒРҙРөлаСӮСҢ СҒР»РөРҙСғСҺСүРёРө РІСӢРІРҫРҙСӢ: РІРҫ-РҝРөСҖРІСӢС…, РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҝРҫРәРёРҪСғР» "РқР°РҙРөР¶РҙСғ" РҪРө РҙРҫРұСҖРҫРІРҫР»СҢРҪРҫ, Р° РұСӢР» СғРҙалРөРҪ СҒ РҪРөРө, РІРҫ-РІСӮРҫСҖСӢС…, РҫРҪ РҝРҫРұСӢвал РІ СҖСғСҒСҒРәРёС… амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёС… РәРҫР»РҫРҪРёСҸС… Рё, РІ-СӮСҖРөСӮСҢРёС…, РҫРҪ, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, РұСӢР» РІСӢСҒажРөРҪ РҪРө РІ РҡамСҮР°СӮРәРө, Р° РҪР° РҫРҙРёРҪ РёР· РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ, РҝСҖРёРҪР°РҙР»РөжавСҲРёС… Рә СҖСғСҒСҒРәРёРј влаРҙРөРҪРёСҸРј. Р•СҒли, РҫРҙРҪР°РәРҫ, РҫРҪ РұСӢР» РІСӢСҒажРөРҪ РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІ, Р° РҪРө РІ РҡамСҮР°СӮРәРө, СӮРҫ РҫРҪ РҪРө РјРҫРі РұСӢСӮСҢ РІСӢСҒажРөРҪ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪРҫРј. РӯСӮРҫ СҒР»РөРҙСғРөСӮ РёР· СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ, РҝСҖРҫРҝР»СӢРІ РұРөР·РҫСҒСӮР°РҪРҫРІРҫСҮРҪРҫ РҫСӮ ГавайСҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ РІ РҡамСҮР°СӮРәСғ Рё РҝСҖРҫРұСӢРІ РІ РҡамСҮР°СӮРәРө РҙРҫ 6-РіРҫ СҒРөРҪСӮСҸРұСҖСҸ, РҫСӮСӮСғРҙР° РҝРҫСҲРөР» РҪРө РІ амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёРө РәРҫР»РҫРҪРёРё, Р° РІ РҜРҝРҫРҪРёСҺ; РІ амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёС… Р¶Рө РәРҫР»РҫРҪРёСҸС… РҫРҪ РұСӢР» РіРҫСҖазРҙРҫ РҝРҫР·РҙРҪРөРө. РҳР· СҚСӮРҫРіРҫ, РәазалРҫСҒСҢ РұСӢ, СҒР»РөРҙСғРөСӮ, СҮСӮРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РұСӢР» РІСӢСҒажРөРҪ РІ РҡамСҮР°СӮРәРө; РҪРҫ РҝРҫСҮРөРјСғ Р¶Рө СӮРҫРіРҙР° РҝРҫСҮСӮРё РІРҫ РІСҒРөС… РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёСҸС… Рҫ РўРҫР»СҒСӮРҫРј РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РұСӢР» РІСӢСҒажРөРҪ РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІ? Р§СӮРҫРұСӢ РҝСҖРёРјРёСҖРёСӮСҢ СҚСӮРё РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҖРөСҮРёСҸ, СҸ СҒРҙРөлаСҺ СӮР°РәРҫРө РҝСҖРөРҙРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө: РҝРҫСҒР»Рө РҝСҖРҫРәаз РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ (РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, РҝРҫСҒР»Рө РҝРҫСҖСҮРё РұСғмаг РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР° СҒ РҝРҫРјРҫСүСҢСҺ РҫРұРөР·СҢСҸРҪСӢ) РҪРө РјРҫРі ли РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ, СҖРөСҲРёРІ РҫСӮРҙРөлаСӮСҢСҒСҸ РҫСӮ РҪРөРіРҫ, РҝРөСҖРөСҒР°РҙРёСӮСҢ РөРіРҫ СҒ "РқР°РҙРөР¶РҙСӢ" РҪР° "РқРөРІСғ" Рё РҝРҫСҖСғСҮРёСӮСҢ РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРҫРјСғ РІСӢСҒР°РҙРёСӮСҢ РөРіРҫ РІ СҖСғСҒСҒРәРёС… амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёС… РәРҫР»РҫРҪРёСҸС…? Р’РөРҙСҢ "РқРөРІР°", СҖР°СҒСҒСӮавСҲРёСҒСҢ СҒ "РқР°РҙРөР¶РҙРҫР№" Сғ ГавайСҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ, РҝСҖСҸРјРҫ РҪР°РҝСҖавилаСҒСҢ РІ СҖСғСҒСҒРәСғСҺ РҗРјРөСҖРёРәСғ.
Р‘СғлгаСҖРёРҪ, РіРҫРІРҫСҖСҸ, СҮСӮРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РІРјРөСҲалСҒСҸ РІ СҒРҝРҫСҖ РјРөР¶РҙСғ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪРҫРј Рё РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРёРј Рё РҙРҫРІРөР» РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР° РҙРҫ РҪРөРҫРұС…РҫРҙРёРјРҫСҒСӮРё РөРіРҫ РІСӢСҒР°РҙРёСӮСҢ, СҚСӮРёРј СҒамСӢРј РҪамРөРәР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҙРөСҖжал СҒСӮРҫСҖРҫРҪСғ РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРҫРіРҫ. Р•СҒли СҚСӮРҫ СӮР°Рә, СӮРҫ РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРёР№ РјРҫРі Р»РөРіРәРҫ СҒРҫглаСҒРёСӮСҢСҒСҸ РІР·СҸСӮСҢ РөРіРҫ Рә СҒРөРұРө РҪР° "РқРөРІСғ". Р’РҫР·РјРҫР¶РҪРҫ, СҮСӮРҫ РҪР° "РқРөРІРө" РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҝСҖРҫРҙРҫлжал РұРөРҙРҫРәСғСҖРёСӮСҢ; РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, РёРјРөРҪРҪРҫ СӮРҫРіРҙР° РҫРҪ РҝСҖРёРҝРөСҮР°СӮал РұРҫСҖРҫРҙСғ СҒРІСҸСүРөРҪРҪРёРәР° Рә РҝалСғРұРө; РІРөРҙСҢ РҫСӮРөСҶ Р“РөРҙРөРҫРҪ РҝР»СӢР» РҪР° "РқРөРІРө", Р° РҪРө РҪР° "РқР°РҙРөР¶РҙРө". РўРҫРіРҙР° РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРёР№, РІ СҒРІРҫСҺ РҫСҮРөСҖРөРҙСҢ РІСӢРІРөРҙРөРҪРҪСӢР№ РёР· СӮРөСҖРҝРөРҪРёСҸ или РҝСҖРҫСҒСӮРҫ РёСҒРҝРҫР»РҪСҸСҸ РҝСҖРёРәазаРҪРёРө РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР°, РІСӢСҒР°РҙРёР» РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РҪР° РҫРҙРёРҪ РёР· РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ СҖСғСҒСҒРәРҫР№ РҗРјРөСҖРёРәРё - РҪР° РҡР°РҙСҢСҸРә или РҪР° РЎРёСӮС…Сғ или РҪР° РәР°РәРҫР№-РҪРёРұСғРҙСҢ РҫСҒСӮСҖРҫРІ СҒРҫСҒРөРҙРҪРёР№ СҒ РҡР°РҙСҢСҸРәРҫРј или РЎРёСӮС…РҫР№.
РҘРҫСӮСҸ РІ РҫРҝРёСҒР°РҪРёРё СҒРІРҫРөРіРҫ РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёСҸ РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРёР№ РҪРө СғРҝРҫРјРёРҪР°РөСӮ Рҫ РӨРөРҙРҫСҖРө РўРҫР»СҒСӮРҫРј, РјРҪРө РәажРөСӮСҒСҸ, СҮСӮРҫ РІСӢСҒРәазаРҪРҪСӢРө РјРҪРҫСҺ РҝСҖРөРҙРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҸ РҝСҖРёРјРёСҖСҸСҺСӮ РҝСҖРҫСӮРёРІРҫСҖРөСҮРёРө РјРөР¶РҙСғ РҫСӮСҮРөСӮРҫРј РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР° Рё СҖР°СҒСҒРәазами СҖазРҪСӢС… лиСҶ Рҫ РІСӢСҒР°РҙРәРө РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІ. Р’РҫР·РјРҫР¶РҪСӢ Рё РҙСҖСғРіРёРө РҝСҖРөРҙРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҸ, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, СҮСӮРҫ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ СғРҙалил РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ СҒ "РқР°РҙРөР¶РҙСӢ" РІ РҡамСҮР°СӮРәРө, Р° РҫСӮСӮСғРҙР° РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҪР° РҫРҙРҪРҫРј РёР· РәРҫСҖР°РұР»РөР№ СҖСғСҒСҒРәРҫ-амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРҫР№ РәРҫРјРҝР°РҪРёРё, или РҪР° РҙСҖСғРіРҫРј РәР°РәРҫРј-РҪРёРұСғРҙСҢ СҒСғРҙРҪРө, РҫСӮРҝСҖавилСҒСҸ РҪР° РҗР»РөСғСӮСҒРәРёРө РҫСҒСӮСҖРҫРІР° Рё РҪР° РЎРёСӮС…Сғ. РқРҫ РҪРёРәР°РәРёС… фаРәСӮРёСҮРөСҒРәРёС… РҙР°РҪРҪСӢС… РҙР»СҸ СӮР°РәРҫРіРҫ РҝСҖРөРҙРҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёСҸ РҪРөСӮ.
РқРёРәРҫлай РңихайлРҫРІРёСҮ РңРөРҪРҙРөР»СҢСҒРҫРҪ, РұРёРұлиРҫСӮРөРәР°СҖСҢ РҹСғРұлиСҮРҪРҫР№ РұРёРұлиРҫСӮРөРәРё РёРјРөРҪРё РӣРөРҪРёРҪР° РІ РңРҫСҒРәРІРө, СҒРҫРҫРұСүРёР» РјРҪРө, СҮСӮРҫ Р·Р°РәРҫРҪРҫСғСҮРёСӮРөР»СҢ РҳСҖРәСғСӮСҒРәРҫР№ РіРёРјРҪазии, РіРҙРө РҫРҪ СғСҮРёР»СҒСҸ, СҒРІСҸСүРөРҪРҪРёРә Р’РёРҪРҫРіСҖР°РҙРҫРІ СҖР°СҒСҒРәазСӢвал РөРјСғ Рҫ СҒРІРҫРөР№ РҝРҫРөР·РҙРәРө РҪР° РЎРёСӮС…Сғ, РіРҙРө СҒРҫС…СҖР°РҪилаСҒСҢ РҝамСҸСӮСҢ Рҫ РҝРҫСҒРөСүРөРҪРёРё РЎРёСӮС…Рё РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҶРөРј РўРҫР»СҒСӮСӢРј.
РЎРёСӮС…Р° - РҫСҒСӮСҖРҫРІ, РҪахРҫРҙСҸСүРёР№СҒСҸ РҪРөРҙалРөРәРҫ РҫСӮ РҡР°РҪР°РҙСҒРәРҫРіРҫ РұРөСҖРөРіР° РЎРөРІРөСҖРҪРҫР№ РҗРјРөСҖРёРәРё, РІРҫСҒСӮРҫСҮРҪРөРө РҗР»РөСғСӮСҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫРІРҫРІ. РӣРёСҒСҸРҪСҒРәРёР№ РҝРёСҲРөСӮ, СҮСӮРҫ РҫРҪ, РҝСҖРҫС…РҫРҙСҸ РјРёРјРҫ РЎРёСӮС…Рё, РҝРҫРәР° РҪРө СҒСӮал РҪР° СҸРәРҫСҖСҢ, РҪРө РІРёРҙРөР» РҪРё жилСҢСҸ, РҪРё СҮРөР»РҫРІРөРәР°; Р»РөСҒР° РҝРҫРәСҖСӢвали РІСҒРө РұРөСҖРөРіР°, Рё СҮСӮРҫ "СҒРәРҫР»СҢРәРҫ РөРјСғ РҪРё СҒР»СғСҮалРҫСҒСҢ РІРёРҙРөСӮСҢ РҪРөРҫРұРёСӮР°РөРјСӢС… РјРөСҒСӮ, РҪРҫ РҫРҪСӢРө РҝСғСҒСӮРҫСӮРҫР№ Рё РҙРёРәРҫСҒСӮСҢСҺ СҒСҖавРҪРёСӮСҢСҒСҸ СҒ СҒРёРјРё РҪРө РјРҫРіСғСӮ". РЎРёСӮС…Р° РұСӢла РҫРұРёСӮР°РөРјР° РҙРёРәРёРј РҝР»РөРјРөРҪРөРј, РҪазваРҪРҪСӢРј СҖСғСҒСҒРәРёРјРё РҡРҫР»РҫСҲами. РқазваРҪРёРө СҚСӮРҫ РҝСҖРҫРёР·РҫСҲР»Рҫ РҫСӮ СҒР»РҫРІР° "РәРҫР»СҺР¶РәР°". Р–РөРҪСүРёРҪСӢ СҚСӮРҫРіРҫ РҝР»РөРјРөРҪРё РҙР»СҸ СҒРІРҫРөРіРҫ СғРәСҖР°СҲРөРҪРёСҸ РҪРҫСҒили РҪР° РҪРёР¶РҪРөР№ РіСғРұРө РәРҫСҒСӮСҢ, РҙРөСҖРөРІСҸСҲРәСғ или СҖР°РәРҫРІРёРҪСғ, РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ СҖСғСҒСҒРәРёРө РҪазвали РәРҫР»СҺР¶РәРҫР№. РһСӮСҒСҺРҙР° РҪазваРҪРёРө СӮСғР·РөРјСҶРөРІ: "РҡРҫР»СҺР¶РәРё" или "РҡРҫР»РҫСҲРё"; СҒами Р¶Рө РҫРҪРё СҒРөРұСҸ РҪазСӢвали "ТлиРҪРәРёСӮ".
РҡР°Рә РҙРҫлгРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҝСҖРҫРұСӢР» РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІРө, РҪРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ. РҳР· СҖР°СҒСҒРәаза РҡамРөРҪСҒРәРҫР№ РјРҫР¶РҪРҫ Р·Р°РәР»СҺСҮРёСӮСҢ, СҮСӮРҫ РөСүРө 12 РҙРөРәР°РұСҖСҸ, РәРҫРіРҙР° РөРјСғ СҸРІРёР»РҫСҒСҢ РІРёРҙРөРҪРёРө, РҫРҪ РұСӢР» РіРҙРө-СӮРҫ РҪР° амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРёС… или РҗР»РөСғСӮСҒРәРёС… РҫСҒСӮСҖРҫвах. РҹРҫСҒР»Рө СҚСӮРҫРіРҫ РәР°РәРҫРө-СӮРҫ СҒСғРҙРҪРҫ, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ РҝСҖРёРҪР°РҙР»РөжавСҲРөРө СҖСғСҒСҒРәРҫ-амРөСҖРёРәР°РҪСҒРәРҫР№ РәРҫРјРҝР°РҪРёРё, РҝРҫРҙРҫРұСҖалРҫ РөРіРҫ Рё, СҒ захРҫРҙРҫРј РҪР° РҗР»РөСғСӮСҒРәРёРө РҫСҒСӮСҖРҫРІР°, РҙРҫСҒСӮавилРҫ РІ РҡамСҮР°СӮРәСғ, РІ РҹРөСӮСҖРҫРҝавлРҫРІСҒРәРёР№ РҝРҫСҖСӮ. РһСӮСҒСҺРҙР°, СғР¶Рө РІ РҪР°СҮалРө 1805 РіРҫРҙР°, РҫРҪ СҮРөСҖРөР· РІСҒСҺ РЎРёРұРёСҖСҢ РҫСӮРҝСҖавилСҒСҸ РІ Р РҫСҒСҒРёСҺ. РӯСӮРҫ РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёРө РҫРҪ СҒРҫРІРөСҖСҲРёР» СҮР°СҒСӮСҢСҺ РІРҫРҙРҫСҺ, СҮР°СҒСӮСҢСҺ РҪР° Р»РҫСҲР°РҙСҸС… (РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ Рё РҪР° СҒРҫРұР°Рәах), Р° СҮР°СҒСӮСҢСҺ - Р·Р° РҪРөРёРјРөРҪРёРөРј РҙРөРҪРөРі - РҝРөСҲРәРҫРј. Р’ РёСҺРҪРө РҫРҪ СғР¶Рө РұСӢР» РІ СҒСӮСҖР°РҪРө РІРҫСӮСҸРәРҫРІ, РіРҙРө РөРіРҫ РІСҒСӮСҖРөСӮРёР» Р’РёРіРөР»СҢ.
Р’ СҖР°СҒСҒРәазах Рҫ РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёРё РӨРөРҙРҫСҖР° РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РөСҒСӮСҢ РҫРҙРҪР° РөСүРө РҪРөСҸСҒРҪРҫСҒСӮСҢ., РӯСӮРҫ РІРҫРҝСҖРҫСҒ Рҫ РөРіРҫ РҫРұРөР·СҢСҸРҪРө. Р§РөРіРҫ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҪРө СҖР°СҒСҒРәазСӢвали РҝСҖРҫ СҚСӮСғ Р»РөРіРөРҪРҙР°СҖРҪСғСҺ РҫРұРөР·СҢСҸРҪСғ! Р§СӮРҫ РҫРҪР° РұСӢла СҒлиСҲРәРҫРј РұлизРәР° РөРјСғ, СҮСӮРҫ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪ РҝСҖРёРәазал РұСҖРҫСҒРёСӮСҢ РөРө РІ РјРҫСҖРө Р·Р° СӮРҫ, СҮСӮРҫ РҫРҪР° РёСҒРҝРҫСҖСӮила РөРјСғ РөРіРҫ РұСғмаги, РҪРҫ СҮСӮРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҒСҠРөР» РөРө, Р° РөСҒли РҪРө СҒСҠРөР», СӮРҫ РІР·СҸР» СҒ СҒРҫРұРҫР№ РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІ, СҮСӮРҫ РәРҫРіРҙР° РҫРҪ РҝРҫРәРёРҙал РҫСҒСӮСҖРҫРІ РҪР° РәР°СӮРөСҖРө СӮРҫРіРҫ РәРҫСҖР°РұР»СҸ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РөРіРҫ РұСҖал СҒ РҫСҒСӮСҖРҫРІР°, РҫРұРөР·СҢСҸРҪР° РёР· РҝСҖРөРҙР°РҪРҪРҫСҒСӮРё РҝРҫРҝР»СӢла Р·Р° РәР°СӮРөСҖРҫРј Рё РҫРҪ СғРҝСҖРҫСҒРёР» РјР°СӮСҖРҫСҒРҫРІ РІР·СҸСӮСҢ РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҪРёРј "РөРіРҫ Р¶РөРҪСғ" Рё СӮ.Рҙ. РЎРәРҫР»СҢРәРҫ РІ СҚСӮРёС… РІСӢРјСӢСҒлах РҝСҖавРҙСӢ, РөРҙРІР° ли РјРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ РІСӢСҸСҒРҪРөРҪРҫ. Р”РҫСҒСӮРҫРІРөСҖРҪРҫ СӮРҫР»СҢРәРҫ СӮРҫ, СҮСӮРҫ Сғ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ, РІРҫ РІСҖРөРјСҸ РөРіРҫ РҝлаваРҪРёСҸ, РұСӢла РұРҫР»СҢСҲР°СҸ РҫРұРөР·СҢСҸРҪР° Рё СҮСӮРҫ, РҝРҫ-РІРёРҙРёРјРҫРјСғ, РҫРҪР° РұСӢла СҒ РҪРёРј Рё РҪР° РҫСҒСӮСҖРҫРІРө. Р§СӮРҫ РҫРҪ РөРө СҒСҠРөР» - РҪРөРІРөСҖРҪРҫ; Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ РіРҫРІРҫСҖРёСӮ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РІСҒРөРіРҙР° СҚСӮРҫ РҫСӮСҖРёСҶал.
РҡРҫРіРҙР° РјРҪРө РұСӢР»Рҫ Р»РөСӮ РҙРөРІСҸСӮСҢ, РјРҫСҸ РјР°СӮСҢ РҝРҫРІРөзла РјРөРҪСҸ Рә РҙРҫСҮРөСҖРё РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР°, РҹСҖР°СҒРәРҫРІСҢРө РӨРөРҙРҫСҖРҫРІРҪРө РҹРөСҖфилСҢРөРІРҫР№, важРҪРҫР№ РјРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫР№ РұР°СҖСӢРҪРө. РЎРёРҙСҸ РІ РөРө РіРҫСҒСӮРёРҪРҫР№, СҸ РІРҙСҖСғРі РҝРҫСҮСғРІСҒСӮРІРҫвал, СҮСӮРҫ РәСӮРҫ-СӮРҫ СҒР·Р°РҙРё РҙРөСҖРіР°РөСӮ РјРөРҪСҸ Р·Р° РІРҫР»РҫСҒСӢ. РӯСӮРҫ РұСӢла РҪРөРұРҫР»СҢСҲР°СҸ РҫРұРөР·СҢСҸРҪР°. РһРәазалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РҹСҖР°СҒРәРҫРІСҢСҸ РӨРөРҙРҫСҖРҫРІРҪР°, РІ РҝамСҸСӮСҢ РҫРұРөР·СҢСҸРҪСӢ СҒРІРҫРөРіРҫ РҫСӮСҶР°, РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РҙРөСҖжала РҝСҖРё СҒРөРұРө РҫРұРөР·СҢСҸРҪРәСғ.
Р“РӣРҗР’Рҗ III
Р’РҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёРө. РЁРІРөРҙСҒРәР°СҸ РІРҫР№РҪР°. Р”СғСҚли СҒ Р‘СҖСғРҪРҫРІСӢРј Рё РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪСӢРј.
РҡСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢ. РазжалРҫРІР°РҪРёРө. Р‘РҫСҖРҫРҙРёРҪРҫ. Р’РҫСҒСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪРёРө РІ РҝСҖавах.
РҡР°Рә РұСӢ СӮРҫ РҪРё РұСӢР»Рҫ, РёР· РҡамСҮР°СӮРәРё РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ РІ ЕвСҖРҫРҝРөР№СҒРәСғСҺ Р РҫСҒСҒРёСҺ СҒСғС…РёРј РҝСғСӮРөРј. Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ РҝРөСҖРөРҙР°РөСӮ СҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№ РөРіРҫ СҖР°СҒСҒРәаз РҫРұ РҫРҙРҪРҫР№ РІСҒСӮСҖРөСҮРө РІ РЎРёРұРёСҖРё:
"РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РІСӢСҒажРөРҪРҪСӢР№ РҪР° РұРөСҖРөРі РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪРҫРј, РІРҫР·РІСҖР°СүалСҒСҸ РҙРҫРјРҫР№ РҝРөСҲРөС…РҫРҙРҪСӢРј СӮСғСҖРёСҒСӮРҫРј. Р“РҙРө-СӮРҫ РІ РҫСӮРҙалРөРҪРҪРҫР№ РЎРёРұРёСҖРё РҪР°Рҝал РҫРҪ РҪР° РҫРҙРҪРҫРіРҫ СҒСӮР°СҖРёРәР°, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, СҒРҫСҒлаРҪРҪРҫРіРҫ. РӯСӮРҫСӮ СҒСӮР°СҖРёРә СғСӮРөСҲал СҒРІРҫРө РіРҫСҖРө СҖРҫРҙРҪСӢРјРё СҒРёРІСғС…РҫР№ Рё РұалалайРәРҫР№. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РіРҫРІРҫСҖРёСӮ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РҝРөР» С…РҫСҖРҫСҲРҫ, РҪРҫ РөСүРө Р»СғСҮСҲРө РёРіСҖал РҪР° СҒРІРҫРөРј РҙРҫРјРҫСҖРҫСүРөРҪРҪРҫРј РёРҪСҒСӮСҖСғРјРөРҪСӮРө. Р“РҫР»РҫСҒ РөРіРҫ, С…РҫСӮСҸ Рё РҝСҢСҸРҪСӢР№ Рё РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҙСҖРөРұРөзжаСүРёР№ РҫСӮ СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮРё, РұСӢР» РҫСӮРјРөРҪРҪРҫ РІСӢСҖазиСӮРөР»РөРҪ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РјРөР¶РҙСғ РҝСҖРҫСҮРёРј, РҝРҫРјРҪРёР» РәСғРҝР»РөСӮ РёР· РҫРҙРҪРҫР№ РөРіРҫ РҝРөСҒРҪРё.
РқРө СӮСғжи, РҪРө РҝлаСҮСҢ, РҙРөСӮРёРҪРәР°,
Р’ РҪРҫСҒ РҝРҫРҝала РәРҫС„РөРёРҪРәР°,
РҗРІРҫСҒСҢ РҝСҖРҫРіР»РҫСҮСғ.
РқР° СҚСӮРҫРј «авРҫСҒСҢ РҝСҖРҫРіР»РҫСҮСғВ» РіРҫР»РҫСҒ СҒСӮР°СҖРёРәР° СҖазСҖСӢвалСҒСҸ СҖСӢРҙР°РҪРёСҸРјРё, СҒам РҫРҪ РҫРұливалСҒСҸ СҒР»Рөзами Рё РіРҫРІРҫСҖРёР», СғСӮРёСҖР°СҸ СҒР»РөР·СӢ: В«РҹРҫРҪРёРјР°РөСӮРө, РІР°СҲРө СҒРёСҸСӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ, РІСҒСҺ СҒРёР»Сғ СҚСӮРҫРіРҫ «авРҫСҒСҢ РҝСҖРҫРіР»РҫСҮСғВ» . РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҙРҫРұавлСҸР», СҮСӮРҫ СҖРөРҙРәРҫ РҪР° СҒСҶРөРҪРө Рё РІ РәРҫРҪСҶРөСҖСӮах РұСӢвал РҫРҪ РұРҫР»РөРө СҖР°СҒСӮСҖРҫРіР°РҪ, СҮРөРј РҝСҖРё СҚСӮРҫР№ РҪРөР»РөРҝРҫР№ РҝРөСҒРҪРө СҒРёРұРёСҖСҒРәРҫРіРҫ СҖР°РҝСҒРҫРҙР°" *.
* Р’ РјРҫРөРј РҙРөСӮСҒСӮРІРө СҸ СҒР»СӢСҲал РҫСӮ РјРҫРөРіРҫ РҫСӮСҶР° СҚСӮРҫСӮ РәСғРҝР»РөСӮ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҫРҪ РҫСӮ РәРҫРіРҫ-СӮРҫ СҒР»СӢСҲал РІ СҒРІРҫРөРј РҙРөСӮСҒСӮРІРө; РҪРө Р·РҪР°СҺ, РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ ли РөРјСғ РұСӢР»Рҫ РөРіРҫ РҝСҖРҫРёСҒС…РҫР¶РҙРөРҪРёРө.
Р’ Р·Р°РҝРёСҒРәах Р’РёРіРөР»СҸ РөСҒСӮСҢ замРөСӮРәР° Рҫ РІСҒСӮСҖРөСҮРө РөРіРҫ СҒ РўРҫР»СҒСӮСӢРј СҒСҖРөРҙРё РіР»СғС…РёС… Р»РөСҒРҫРІ РІРҫСӮСҸСҶРәРҫРіРҫ РәСҖР°СҸ, РІ РёСҺРҪРө 1805 РіРҫРҙР°, РІ СӮРҫ РІСҖРөРјСҸ, РәРҫРіРҙР° РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РІРҫР·РІСҖР°СүалСҒСҸ СҮРөСҖРөР· РЎРёРұРёСҖСҢ РІ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі.
"РқР° РҫРҙРҪРҫР№ РёР· СҒСӮР°РҪСҶРёР№, - СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°РөСӮ Р’РёРіРөР»СҢ, - РјСӢ СҒ СғРҙРёРІР»РөРҪРёРөРј СғРІРёРҙРөли РІРҫСҲРөРҙСҲРөРіРҫ Рә РҪам РҫфиСҶРөСҖР° РІ РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРј РјСғРҪРҙРёСҖРө. РӯСӮРҫ РұСӢР» РіСҖаф РӨ.Рҳ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РҙРҫСҒРөР»Рө СҒСӮРҫР»СҢ РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢР№ РҝРҫРҙ РёРјРөРҪРөРј РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҶР°. РһРҪ РҙРөлал РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёРө РІРҫРәСҖСғРі СҒРІРөСӮР° СҒ РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪРҫРј Рё Р РөР·Р°РҪРҫРІСӢРј, СҒРҫ РІСҒРөРјРё РҝРөСҖРөСҒСҒРҫСҖРёР»СҒСҸ, РІСҒРөС… РҝРөСҖРөСҒСҒРҫСҖРёР» Рё РәР°Рә РҫРҝР°СҒРҪСӢР№ СҮРөР»РҫРІРөРә РұСӢР» РІСӢСҒажРөРҪ РҪР° РұРөСҖРөРі РІ РҡамСҮР°СӮРәРө Рё СҒСғС…РёРј РҝСғСӮРөРј РІРҫР·РІСҖР°СүалСҒСҸ РІ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі. Р§РөРіРҫ РҝСҖРҫ РҪРөРіРҫ РҪРө СҖР°СҒСҒРәазСӢвали..."
Р—РҙРөСҒСҢ Р’РёРіРөР»СҢ РҝСҖРёРІРҫРҙРёСӮ СҖР°СҒСҒРәаз Рҫ Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫСҒСӮРё РӨ.Рҳ. РІ РҙРөСӮСҒСӮРІРө Рё Рҫ СӮРҫРј, РәР°Рә РҫРҪ РұСғРҙСӮРҫ РұСӢ СҒСҠРөР» СҒРІРҫСҺ РҫРұРөР·СҢСҸРҪСғ. ДалРөРө Р’РёРіРөР»СҢ РҝРёСҲРөСӮ:
"РһРҪ РҝРҫСҖазил РҪР°СҒ СҒРІРҫРөР№ РҪР°СҖСғР¶РҪРҫСҒСӮСҢСҺ. РҹСҖРёСҖРҫРҙР° РҪР° РіРҫР»РҫРІРө РөРіРҫ РәСҖСғСӮРҫ завила РіСғСҒСӮСӢРө СҮРөСҖРҪСӢРө РІРҫР»РҫСҒСӢ; глаза РөРіРҫ, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ РҫСӮ жаСҖСӢ Рё РҝСӢли РҝРҫРәСҖР°СҒРҪРөРІСҲРёРө, РҝРҫРәазалиСҒСҢ РҪалиСӮСӢРјРё РәСҖРҫРІСҢСҺ; РҝРҫСҮСӮРё Р¶Рө РјРөлаРҪС…РҫлиСҮРөСҒРәРёР№ РІР·РіР»СҸРҙ РөРіРҫ Рё СҒамСӢР№ СӮРёС…РёР№ РіРҫРІРҫСҖ РөРіРҫ РҪР°СҒСӮСҖР°СүРөРҪРҪСӢРј РјРҫРёРј СӮРҫРІР°СҖРёСүам РәазалСҒСҸ СҒРјСғСӮРҪСӢРј. РҜ Р¶Рө РҪРө РҝРҫРҪРёРјР°СҺ, РәР°Рә РҪРө РҝРҫСҮСғРІСҒСӮРІРҫвал РҪРё малРөР№СҲРөРіРҫ СҒСӮСҖаха, Р° РҪР°РҝСҖРҫСӮРёРІ, СҒРёР»СҢРҪРҫРө Рә РҪРөРјСғ РІР»РөСҮРөРҪРёРө. РһРҪ РҝСҖРҫРұСӢР» СҒ РҪами РҪРөРҙРҫлгРҫ, РіРҫРІРҫСҖРёР» СҒамРҫРө РҫРұСӢРәРҪРҫРІРөРҪРҪРҫРө, РҪРҫ СҒамСғСҺ РҝСҖРҫСҒСӮСғСҺ СҖРөСҮСҢ РІРөР» СӮР°Рә СғРјРҪРҫ, СҮСӮРҫ РјРҪРө РІРҪСғСӮСҖРөРҪРҪРө РұСӢР»Рҫ жалСҢ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РөРҙРөСӮ РҫСӮ РҪР°СҒ, Р° РҪРө СҒ РҪами. РңРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, РҫРҪ СҒРёРө замРөСӮРёР», РҝРҫСӮРҫРјСғ СҮСӮРҫ СҒРҫ РјРҪРҫСҺ РұСӢР» лаСҒРәРҫРІРөРө, СҮРөРј СҒ РҙСҖСғРіРёРјРё, Рё РҪР° РҙРҫСҖРҫРіСғ РҝРҫРҙР°СҖРёР» РјРҪРө СҒСӮРәР»СҸРҪРёСҶСғ СҒРјРҫСҖРҫРҙРёРҪРҫРІРҫРіРҫ СҒРёСҖРҫРҝР°, СғРІРөСҖСҸСҸ, СҮСӮРҫ, РҝСҖРёРұлижаСҸСҒСҢ Рә РұРҫР»РөРө РҫРұРёСӮР°РөРјСӢРј РјРөСҒСӮам, РІ РҪРөР№ РҪСғР¶РҙСӢ РҪРө РёРјРөРөСӮ".
РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ Р·Р° СҒРІРҫРё РұРөСҒСҮРёРҪСҒСӮРІР° РҝРҫРҝлаСӮРёР»СҒСҸ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ СҒРІРҫРёРј РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёРөРј Рё РІСӢСҒР°РҙРәРҫР№.
"РҡРҫРіРҙР° РҫРҪ РІРҫР·РІСҖР°СүалСҒСҸ РёР· РҝСғСӮРөСҲРөСҒСӮРІРёСҸ РІРҫРәСҖСғРі СҒРІРөСӮР°, - РҝРёСҲРөСӮ Р’РёРіРөР»СҢ, - РҫРҪ РұСӢР» РҫСҒСӮР°РҪРҫРІР»РөРҪ Сғ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРіСҒРәРҫР№ Р·Р°СҒСӮавСӢ, РҝРҫСӮРҫРј РҝСҖРҫРІРөР·РөРҪ СӮРҫР»СҢРәРҫ СҮРөСҖРөР· СҒСӮРҫлиСҶСғ Рё РҫСӮРҝСҖавлРөРҪ РІ РқРөР№СҲР»РҫСӮСҒРәСғСҺ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢ. РҹСҖРёРәазРҫРј СӮРҫРіРҫ Р¶Рө РҙРҪСҸ РҝРөСҖРөРІРөРҙРөРҪ РёР· РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР° РІ СӮамРҫСҲРҪРёР№ РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪ СӮРөРј Р¶Рө СҮРёРҪРҫРј (РҝРҫСҖСғСҮРёРәРҫРј). РқР°РәазаРҪРёРө Р¶РөСҒСӮРҫРәРҫРө РҙР»СҸ С…СҖР°РұСҖРөСҶР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҪРёРәРҫРіРҙР° РҪРө РІРёРҙал СҒСҖажРөРҪРёР№, Рё РІ СӮРҫ СҒамРҫРө РІСҖРөРјСҸ, РәРҫРіРҙР° РҫСӮ Р’РҫСҒСӮРҫРәР° РҙРҫ Р—Р°РҝР°РҙР° РІРҫ РІСҒРөР№ ЕвСҖРҫРҝРө загРҫСҖРөлаСҒСҢ РІРҫР№РҪР°" *.
* РҳР· РёСҒСӮРҫСҖРёРё РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР° РІРёРҙРҪРҫ, СҮСӮРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ 10 авгСғСҒСӮР° 1805 Рі. РұСӢР» РІСӢРҝРёСҒР°РҪ РёР· РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР° РІ РқРөР№СҲР»РҫСӮСҒРәРёР№ РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪ. Р’РөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, Рә СҚСӮРҫРјСғ РІСҖРөРјРөРҪРё РҙРҫ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРіР° РҙРҫСҲР»Рҫ РҙРҫРҪРөСҒРөРҪРёРө РҡСҖСғР·РөРҪСҲСӮРөСҖРҪР° Рҫ РөРіРҫ РҝРҫРІРөРҙРөРҪРёРё РҪР° РәРҫСҖР°РұР»Рө, РІСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРө СҮРөРіРҫ РҫРҪ "РҝРҫРҝал РёР· РіРІР°СҖРҙРёРё РІ РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪ".
Р’ РіР»СғС…РҫРј РјРөСҒСӮРөСҮРәРө, РҝРҫСҖСғСҮРёРәРҫРј РіР°СҖРҪРёР·РҫРҪР° РқРөР№СҲР»РҫСӮСҒРәРҫР№ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРё, РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҝСҖРҫСҒР»Сғжил РұРҫР»РөРө РҙРІСғС… Р»РөСӮ (РҫСӮ РәРҫРҪСҶР° 1805 РіРҫРҙР° РҙРҫ 1808 РіРҫРҙР°). Р’СҒРө РөРіРҫ РҝРҫРјСӢСҒР»СӢ РұСӢли РҪР°РҝСҖавлРөРҪСӢ РҪР° СӮРҫ, СҮСӮРҫРұСӢ РІСӢРұСҖР°СӮСҢСҒСҸ РҫСӮСӮСғРҙР°. Р’РёРіРөР»СҢ РҝРёСҲРөСӮ, СҮСӮРҫ РәРҫРіРҙР° РөРіРҫ Р·СҸСӮСҢ, СҲРөС„ РңРёСӮавСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР°, РіРөРҪРөСҖал РҳР»СҢСҸ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҗР»РөРәСҒРөРөРІ РҝСҖРёРұСӢР» РІ РЎРөСҖРҙРҫРұРҫР»СҢ, РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҸРІРёР»СҒСҸ Рә РҪРөРјСғ Рё РјРҫлил РІР·СҸСӮСҢ РөРіРҫ СҒ СҒРҫРұРҫСҺ РҪР° РЁРІРөРҙСҒРәСғСҺ РІРҫР№РҪСғ.
"РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҪР°СҖСғР¶РҪРҫСҒСӮСҢСҺ Рё СҒРөСҖРҙСҶРөРј РҝРҫР»СҺРұРёР»СҒСҸ РҗР»РөРәСҒРөРөРІСғ, Рё РҗР»РөРәСҒРөРөРІ РҝСҖРөРҙСҒСӮавил Рҫ СӮРҫРј РІ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі, РҪРҫ СҒ РІСӢРіРҫРІРҫСҖРҫРј РҝРҫР»СғСҮРёР» РҫСӮРәаз. Р”СҖСғРіРҫРө РҙРөР»Рҫ СҒ Р”РҫлгРҫСҖСғРәРҫРІСӢРј, СӮРҫРјСғ РҫСӮРәазаСӮСҢ РҪРө СҒРјРөли".
РҡРҪСҸР·СҢ Рңихаил РҹРөСӮСҖРҫРІРёСҮ Р”РҫлгРҫСҖСғРәРҫРІ РІРҫ РІСҖРөРјСҸ СҲРІРөРҙСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ РұСӢР» РәРҫРјР°РҪРҙСғСҺСүРёРј РЎРөСҖРҙРҫРұСҒРәРёРј РҫСӮСҖСҸРҙРҫРј, Рё РҝРҫ РөРіРҫ РҝСҖРҫСҒСҢРұРө РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РұСӢР» РҪазРҪР°СҮРөРҪ Рә РҪРөРјСғ Р°РҙСҠСҺСӮР°РҪСӮРҫРј.
РӣРёРҝСҖР°РҪРҙРё РІ СҒРІРҫРёС… замРөСҮР°РҪРёСҸС… РҪР° Р·Р°РҝРёСҒРәРё Р’РёРіРөР»СҸ СӮР°Рә СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°РөСӮ Рҫ РҝСҖРөРұСӢРІР°РҪРёРё РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РІ СҲСӮР°РұРө Р”РҫлгРҫСҖСғРәРҫРІР° Рё Рҫ СҒРјРөСҖСӮРё Р”РҫлгРҫСҖСғРәРҫРІР°:
"РҡРҪСҸР·СҢ Р·РҪал РөРіРҫ РёР·РҙавРҪР° Рё РұСӢР» СҒ РҪРёРј РәР°Рә СҒРҫ СҒСӮР°СҖСӢРј СӮРҫРІР°СҖРёСүРөРј, Р»СҺРұРёР» СҒР»СғСҲР°СӮСҢ РөРіРҫ СҖР°СҒСҒРәазСӢ, РјР°СҒСӮРөСҖСҒРәРё излагаРөРјСӢРө, Рё РҪРө РёРҪР°СҮРө РҪазСӢвал РөРіРҫ РәР°Рә РӨРөРҙРөР№ или РӨРөРҙРҫСҖРҫРј. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ завРөРҙСӢвал РҝРҫС…РҫРҙРҪСӢРј С…РҫР·СҸР№СҒСӮРІРҫРј Рё Р·Р° СҒСӮРҫР»РҫРј СҖазливал СҒСғРҝ, РҙРөлал РҙР»СҸ лиСҮРҪРҫРіРҫ СғРҝРҫСӮСҖРөРұР»РөРҪРёСҸ РәРҪСҸР·СҸ РәРҫРҪРІРөСҖСӮСӢ (СӮРҫРіРҙР° РҪРө РұСӢР»Рҫ РөСүРө РәР»РөРөРҪСӢС…) Рё СӮ.Рҝ. Рё СҒРұРөСҖРөгалСҒСҸ РҙР»СҸ РҫСӮСҮР°СҸРҪРҪСӢС… РҝСҖРөРҙРҝСҖРёСҸСӮРёР№".
РһСӮСҮР°СҸРҪРҪРҫРө РҝСҖРөРҙРҝСҖРёСҸСӮРёРө СҒРәРҫСҖРҫ РҝСҖРөРҙСҒСӮавилРҫСҒСҢ. 15 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1808 РіРҫРҙР° РІРҫ РІСҖРөРјСҸ СҒСҖажРөРҪРёСҸ РҝРҫРҙ РҳРҙРөРҪСҒалСҢРјРө, СҮСӮРҫРұСӢ РҪРө РҙР°СӮСҢ РҫСӮСҒСӮСғРҝР°СҺСүРёРј СҲРІРөРҙСҒРәРёРј РҙСҖагСғРҪам РІСҖРөРјРөРҪРё СҖазРҫРұСҖР°СӮСҢ РјРҫСҒСӮ, РәРҪСҸР·СҢ РҝРҫСҖСғСҮРёР» РўРҫР»СҒСӮРҫРјСғ СҒ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёРјРё РәазаРәами РұСҖРҫСҒРёСӮСҢСҒСҸ Р·Р° СҲРІРөРҙами Рё завСҸР·Р°СӮСҢ СҒ РҪРёРјРё РҝРөСҖРөСҒСӮСҖРөР»РәСғ, СҮСӮРҫ Рё РұСӢР»Рҫ СғРҙР°СҮРҪРҫ РІСӢРҝРҫР»РҪРөРҪРҫ.
Р’ СҚСӮРҫСӮ Р¶Рө РҙРөРҪСҢ, РІ РҝСҖРёСҒСғСӮСҒСӮРІРёРё РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ, Р”РҫлгРҫСҖСғРәРҫРІ РұСӢР» СғРұРёСӮ. РҹРҫ СҒР»Рҫвам РӣРёРҝСҖР°РҪРҙРё,
"РҝСҖРё РәРҪСҸР·Рө РҫСҒСӮавалиСҒСҢ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫРҪ - РӣРёРҝСҖР°РҪРҙРё СҒ РҝлаРҪРҫРј РҝРҫР·РёСҶРёРё РІ СҖСғРәах Рё РіСҖ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҒ РҫРіСҖРҫРјРҪРҫР№ РҝРөРҪРәРҫРІРҫР№ СӮСҖСғРұРәРҫР№. РҡРҪСҸР·СҢ РұСӢР» РІ СҒСҺСҖСӮСғРәРө РҪР°СҖР°СҒРҝР°СҲРәСғ, РҝРҫРҙ РәРҫСӮРҫСҖСӢРј РұСӢР» СҲРҝРөРҪР·РөСҖ, СӮ.Рө. РјСғРҪРҙРёСҖ РұРөР· фалРҙ. Р’ РҝСҖавРҫР№ СҖСғРәРө РҫРҪ РҙРөСҖжал РҪР° РәРҫСҖРҫСӮРөРҪСҢРәРҫРј СҮСғРұСғРәРө СӮСҖСғРұРәСғ, РІ Р»РөРІРҫР№ - малРөРҪСҢРәСғСҺ Р·СҖРёСӮРөР»СҢРҪСғСҺ СӮСҖСғРұСғ. Р”РөРҪСҢ РұСӢР» РҝСҖРөРәСҖР°СҒРҪСӢР№, РҫСҒРөРҪРҪРёР№. РҡРҪСҸР·СҢ СҲРөР» РҝРҫРҙ РіРҫСҖСғ Р·Р° РҝРҫР»Рәами, РҝРөСҖРөРҝСҖавивСҲРёРјРёСҒСҸ СҮРөСҖРөР· РјРҫСҒСӮ. Р’РҙСҖСғРі РјСӢ СғСҒР»СӢСҲали СғРҙР°СҖ СҸРҙСҖР° Рё РІ СӮРҫ Р¶Рө РІСҖРөРјСҸ СғРІРёРҙРөли РәРҪСҸР·СҸ, СғРҝавСҲРөРіРҫ РІ СҸРјСғ, РёР· РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РІСӢРұРёСҖали глиРҪСғ РҫРәРҫР»Рҫ РҙРҫСҖРҫРіРё".
РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Рё РӣРёРҝСҖР°РҪРҙРё РұСҖРҫСҒилиСҒСҢ Р·Р° РҪРёРј.
"РһРҪ Р»Рөжал РҪР° СҒРҝРёРҪРө. РўСҖРөС…С„СғРҪСӮРҫРІРҫРө СҸРҙСҖРҫ СғРҙР°СҖРёР»Рҫ РөРіРҫ РІ Р»РҫРәРҫСӮСҢ РҝСҖавРҫР№ СҖСғРәРё Рё РҝСҖРҫРҪР·РёР»Рҫ РөРіРҫ СҒСӮР°РҪ. РһРҪ РұСӢР» РұРөР·РҙСӢС…Р°РҪРөРҪ". РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Рё РҙСҖСғРіРёРө РҝРҫР»Рҫжили РөРіРҫ РҪР° РҙРҫСҒРәСғ Рё РҝРҫРҪРөСҒли. "РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҖРөСҲРёСӮРөР»СҢРҪРҫ СҒРәазал, СҮСӮРҫ РҪРө РұСғРҙРөСӮ СҒРјСӢРІР°СӮСҢ РәСҖРҫРІСҢ, РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РҫРҪ Р·Р°РҝР°СҮРәалСҒСҸ, РҝРҫРҙСӢРјР°СҸ СӮРөР»Рҫ, РҝРҫРәР° РҫРҪР° СҒама РҪРө РёСҒСҮРөР·РҪРөСӮ, Рё РІР·СҸР» СҒРөРұРө СҲРҝРөРҪР·РөСҖ РәРҪСҸР·СҸ".
РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Рё Р–Р°РҙРҫРІСҒРәРёР№ РҝРҫРІРөзли СӮРөР»Рҫ РәРҪСҸР·СҸ РІ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі.
"РқРҫ, - РҝРёСҲРөСӮ Р’РёРіРөР»СҢ, - РәР°Рә РІРҫСҒРҝСҖРөСүРөРҪСҢРө РІСҠРөзжаСӮСҢ РІ СҒСӮРҫлиСҶСӢ СҒ РҪРөРіРҫ СҒРҪСҸСӮРҫ РҪРө РұСӢР»Рҫ, СӮРҫ РөРіРҫ РҫРҝСҸСӮСҢ РҫСҒСӮР°РҪРҫвили РҪР° Р·Р°СҒСӮавРө. ЕмСғ РІРөРҙРөРҪРҫ РұСӢР»Рҫ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҝСҖРёСҒСғСӮСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ РҝСҖРё СҶРөСҖРөРјРҫРҪРёРё РҝРҫРіСҖРөРұРөРҪРёСҸ Рё СӮРҫСӮСҮР°СҒ Р¶Рө РІСӢРөС…Р°СӮСҢ РёР· РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРіР°, СӮРҫР»СҢРәРҫ СғР¶Рө Рә РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРјСғ РұР°СӮалСҢРҫРҪСғ, РҪахРҫРҙРёРІСҲРөРјСғСҒСҸ РІ РҗРұРҫРІРө, РәСғРҙР° РҝРөСҖРөРІРөли РөРіРҫ РІ РҝамСҸСӮСҢ Р”РҫлгРҫСҖСғРәРҫРІР°".
РҳР· РёСҒСӮРҫСҖРёРё РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР° РІРёРҙРҪРҫ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪ РІ РҝРҫР»Рә 31 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1808 РіРҫРҙР°.
Р’СҒРәРҫСҖРө РөРјСғ СғРҙалРҫСҒСҢ РҫСӮлиСҮРёСӮСҢСҒСҸ. РҹРҫ РҝСҖРёРәазаРҪРёСҺ РәРҪСҸР·СҸ Р“РҫлиСҶСӢРҪР°, РәРҫРјР°РҪРҙРёСҖР° РәРҫСҖРҝСғСҒР°, РҙРөР№СҒСӮРІРҫвавСҲРөРіРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІ СҲРІРөРҙРҫРІ, РөРјСғ РҝРҫСҖСғСҮРөРҪРҫ РұСӢР»Рҫ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°СӮСҢ РҝСҖРҫлив РҳРІР°СҖРәРөРҪ. РһРҪ СҒ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёРјРё РәазаРәами РҙРҫСҲРөР» РҙРҫ Р“РҫРҙРҙРөРҪСҒРәРҫРіРҫ РјР°СҸРәР° Рё РҙРҫРҪРөСҒ, СҮСӮРҫ РҝСғСӮСҢ С…РҫСӮСҸ СӮСҖСғРҙРөРҪ, РҪРҫ РІРҫР·РјРҫР¶РөРҪ, РҝСҖРёСҮРөРј РҙРҫРұавил, СҮСӮРҫ СҲРІРөРҙСӢ РІ СӮРҫР№ РјРөСҒСӮРҪРҫСҒСӮРё РҪРө СҖР°СҒРҝРҫлагаСҺСӮ РұРҫР»СҢСҲРёРјРё СҒилами. РӯСӮРҫ РҙРҫРҪРөСҒРөРҪРёРө РҙалРҫ РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ БаСҖРәлаСҺ-РҙРө-РўРҫлли, РҝСҖРёРҪСҸРІСҲРөРјСғ РәРҫРјР°РҪРҙРҫРІР°РҪРёРө РәРҫСҖРҝСғСҒРҫРј, РҝРөСҖРөР№СӮРё РҝРҫ Р»СҢРҙСғ Р‘РҫСӮРҪРёСҮРөСҒРәРҫРіРҫ залива Рё СҒ СӮСҖРөС…СӮСӢСҒСҸСҮРҪСӢРј РҫСӮСҖСҸРҙРҫРј Р·Р°РҪСҸСӮСҢ Р’РөСҒСӮРөСҖРұРҫСӮРҪРёСҺ *.
* РңихайлРҫРІСҒРәРёР№. ДаРҪРёР»РөРІСҒРәРёР№. РһРҝРёСҒР°РҪРёРө СҲРІРөРҙСҒРәРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ 1808-1809 РіРі., РЎ.362.
Рҗ Р·Р°СӮРөРј, РҫРәазавСҲРёСҒСҢ РІ РҝСҖРөР¶РҪРөР№ РҫРұСҒСӮР°РҪРҫРІРәРө, РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҝСҖРёРҪСҸР»СҒСҸ РҫРҝСҸСӮСҢ Р·Р° СҒСӮР°СҖРҫРө. Р’ СӮРҫ РІСҖРөРјСҸ Сғ РҪРөРіРҫ РұСӢли РҙРІРө РҙСғСҚли, РҫРҙРҪР° СҒ РәР°РҝРёСӮР°РҪРҫРј РіРөРҪРөСҖалСҢРҪРҫРіРҫ СҲСӮР°РұР° Р‘СҖСғРҪРҫРІСӢРј, РҙСҖСғРіР°СҸ СҒ РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖРҫРј РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮРөРј РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪСӢРј, СҒСӢРҪРҫРј РҫРұРөСҖ-СҶРөСҖРөРјРҫРҪРёР№РјРөР№СҒСӮРөСҖР° Рҳ.Рҗ.РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪР°, РјРҫР»РҫРҙСӢРј Рё РәСҖР°СҒРёРІСӢРј РҫфиСҶРөСҖРҫРј, живСӢРј Рё РІСҒРҝСӢР»СҢСҮРёРІСӢРј.
РЎРҫС…СҖР°РҪилиСҒСҢ СӮСҖРё РІРөСҖСҒРёРё РөРіРҫ РҙСғСҚли СҒ РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪСӢРј, РҫРҙРҪР° - Р’РёРіРөР»СҸ, РҙСҖСғРіР°СҸ - РӣРёРҝСҖР°РҪРҙРё, РҝРҫРҝСҖавлСҸСҺСүР°СҸ Р’РёРіРөР»СҸ, Р° СӮСҖРөСӮСҢСҸ Р‘СғлгаСҖРёРҪР°.
Р’РөСҖСҒРёСҸ Р’РёРіРөР»СҸ СӮР°РәРҫРІР°:
"РЈ СҖР°РҪРөРҪРҫРіРҫ РҗР»РөРәСҒРөРөРІР°, РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё живСҲРөРіРҫ РІ РҗРұРҫ, РәажРҙСӢР№ РҙРөРҪСҢ СҒРҫРұРёСҖалаСҒСҢ РіРІР°СҖРҙРөР№СҒРәР°СҸ РјРҫР»РҫРҙРөР¶СҢ, РјРөР¶РҙСғ РҝСҖРҫСҮРёРј СҒСӮР°СҖСӢР№ Р·РҪР°РәРҫРјСӢР№ РөРіРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Рё РјРҫР»РҫРҙРҫР№ РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪ. РһРұР° РҫРҪРё РұСӢли РІР»СҺРұР»РөРҪСӢ РІ РәР°РәСғСҺ-СӮРҫ СҲРІРөРҙРәСғ, фиРҪР»СҸРҪРҙРәСғ или СҮСғС…РҫРҪРәСғ Рё СҖРөРІРҪРҫвали РөРө РҙСҖСғРі Рә РҙСҖСғРіСғ; РІ РҫРҙРёРҪ РёР· СҚСӮРёС… РІРөСҮРөСҖРҫРІ СҒРёРҙРөли РҫРҪРё СҖСҸРҙРҫРј Р·Р° РұРҫР»СҢСҲРёРј РәР°СҖСӮРҫСҮРҪСӢРј СҒСӮРҫР»РҫРј, СҲРөРҝРҫСӮРҫРј СҖазРұСҖР°РҪилиСҒСҢ, РҪР° РҙСҖСғРіРҫРө СғСӮСҖРҫ РҙСҖалиСҒСҢ, Рё РұРөРҙРҪСӢР№ РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪ Рҝал РҫСӮ РҝРөСҖРІРҫРіРҫ РІСӢСҒСӮСҖРөла СҒРІРҫРөРіРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР°".
РӣРёРҝСҖР°РҪРҙРё, РІРөСҖСҒРёСҺ РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ СҒР»РөРҙСғРөСӮ СҒСҮРёСӮР°СӮСҢ РұРҫР»РөРө РҙРҫСҒСӮРҫРІРөСҖРҪРҫР№, СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°РөСӮ:
"РЎСӮРҫР»РәРҪРҫРІРөРҪРёРө РёС… РҝСҖРҫРёР·РҫСҲР»Рҫ Р·Р° РұРҫСҒСӮРҫРҪРҪСӢРј СҒСӮРҫР»РҫРј. РҳРіСҖали РҗР»РөРәСҒРөРөРІ, РЎСӮавСҖР°РәРҫРІ, РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Рё РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪ. РазРұСҖР°РҪРәРё РјРөР¶РҙСғ РҪРёРјРё РҪРө РұСӢР»Рҫ, СӮРөРј РөСүРө РјРөРҪРөРө Р·Р° СҖРөРІРҪРҫСҒСӮСҢ; РІ СҚСӮРҫРј РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё РҫРҪРё РұСӢли Р°РҪСӮРёРҝРҫРҙами. РқРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҙРҪРөР№ РҝРөСҖРөРҙ СӮРөРј РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҝСҖРҫСҒСӮСҖРөлил РәР°РҝРёСӮР°РҪР° РіРөРҪРөСҖалСҢРҪРҫРіРҫ СҲСӮР°РұР° Р‘СҖСғРҪРҫРІР°, РІСҒСӮСғРҝРёРІСҲРөРіРҫСҒСҸ РҝРҫ СҒРҝР»РөСӮРҪСҸРј Р·Р° СҒРІРҫСҺ СҒРөСҒСӮСҖСғ, Рҫ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҒРәазал СҒР»РҫРІСҶРҫ, РҪР° РәРҫСӮРҫСҖРҫРө РІ РҪР°СҒСӮРҫСҸСүРөРө РІСҖРөРјСҸ РҪРө РҫРұСҖР°СӮили РұСӢ РІРҪРёРјР°РҪРёСҸ, или РұСӢ РҝРҫСҒРјРөСҸлиСҒСҢ Рё РҪРө РұРҫР»РөРө, РҪРҫ РҪР°РҙРҫ РҝРөСҖРөРҪРөСҒСӮРёСҒСҢ РІ СӮСғ РҝРҫСҖСғ. РҡРҫРіРҙР° СҒР»РҫРІСҶРҫ СҚСӮРҫ РҙРҫСҲР»Рҫ РҙРҫ РұСҖР°СӮР°, СӮРҫ РҫРҪ СҒРҫРұСҖал СҒРІРөРҙРөРҪРёСҸ, РҝСҖРё РәРҫРј РҫРҪРҫ РұСӢР»Рҫ РҝСҖРҫРёР·РҪРөСҒРөРҪРҫ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҝРҫРҙРҫР·СҖРөвал (РҫСҒРҪРҫРІР°СӮРөР»СҢРҪРҫ или РҪРөСӮ, РҪРө Р·РҪР°СҺ), СҮСӮРҫ РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪ, РІ СҮРёСҒР»Рө РұСғРҙСӮРҫ РұСӢ РҙСҖСғРіРёС…, РҝРҫРҙСӮРІРөСҖРҙРёР» СҒРәазаРҪРҪРҫРө, Рё РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪ Р·РҪал, СҮСӮРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РөРіРҫ РҝРҫРҙРҫР·СҖРөРІР°РөСӮ РІ СҚСӮРҫРј. РҳРіСҖали РІ РұРҫСҒСӮРҫРҪ СҒ РҝСҖРёРәСғРҝРәРҫР№. РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪ РҝРҫСӮСҖРөРұРҫвал СӮСғР·Р° СӮР°РәРҫР№-СӮРҫ РјР°СҒСӮРё. РһРҪ РҪахРҫРҙРёР»СҒСҸ Сғ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ. РһСӮРҙаваСҸ РөРіРҫ, РҫРҪ РұРөР· РІСҒСҸРәРҫРіРҫ СҒРөСҖРҙСҶР°, РҫРұСӢРәРҪРҫРІРөРҪРҪСӢРј РҙСҖСғР¶РөСҒРәРёРј, РІСҒРөРіРҙР°СҲРҪРёРј СӮРҫРҪРҫРј, РҝСҖРёСҒРҫРІРҫРәСғРҝРёР» - СӮРөРұРө РұСӢ РІРҫСӮ РҪР°РҙРҫ СҚСӮРҫРіРҫ: РҫСӮРҪРҫСҒСҸ Рә РҙСҖСғРіРҫРіРҫ СҖРҫРҙР° СӮСғР·Сғ. РқР° РҙСҖСғРіРҫР№ РҙРөРҪСҢ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СғРҝРҫСӮСҖРөРұР»СҸР» РІСҒРө СҒСҖРөРҙСҒСӮРІР° Рә РҝСҖРёРјРёСҖРөРҪРёСҺ, РҪРҫ РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪ РҫСҒСӮавалСҒСҸ РҪРөРҝСҖРөРәР»РҫРҪРөРҪ Рё СҮРөСҖРөР· РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҮР°СҒРҫРІ РұСӢР» СҒРјРөСҖСӮРөР»СҢРҪРҫ СҖР°РҪРөРҪ РІ Рҝах".
Р‘СғлгаСҖРёРҪ РІ СҒРІРҫРёС… Р·Р°РҝРёСҒРәах РөСүРө РҝРҫРҙСҖРҫРұРҪРөРө РҫРҝРёСҒСӢРІР°РөСӮ СҒСҒРҫСҖСғ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ СҒ РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪСӢРј.
"РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРёР№ РҝРҫР»Рә СӮРҫРіРҙР° СҒСӮРҫСҸР» РІ РҹР°СҖРіРҫР»РҫРІРө, - РҝРёСҲРөСӮ Р‘СғлгаСҖРёРҪ, - Рё РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҫфиСҶРөСҖРҫРІ СҒРҫРұСҖалиСҒСҢ Сғ РіСҖ. РӨ.Рҳ. Рў. РҪР° РІРөСҮРөСҖ. РЎСӮали РёРіСҖР°СӮСҢ РІ РәР°СҖСӮСӢ. Рў. РҙРөСҖжал РұР°РҪРә РІ галСҢРұРө-СҶРІРөР»СҢС„Рө. РҹСҖР°РҝРҫСҖСүРёРә Р»РөР№Рұ-РөРіРөСҖСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР° Рҗ.Рҳ. Рқ., РҝСҖРөРәСҖР°СҒРҪСӢР№ СҒРҫРұРҫСҺ СҺРҪРҫСҲР°, СҒРәСҖРҫРјРҪСӢР№, РұлагРҫРІРҫСҒРҝРёСӮР°РҪРҪСӢР№, РҝСҖРёСҒСӮал СӮР°РәР¶Рө Рә РёРіСҖРө. Р’ РёР·РұРө РұСӢР»Рҫ жаСҖРәРҫ, Рё РјРҪРҫРіРёРө РіРҫСҒСӮРё РҝРҫ РҝСҖРёРјРөСҖСғ С…РҫР·СҸРёРҪР° СҒРҪСҸли СҒРІРҫРё РјСғРҪРҙРёСҖСӢ. РҹРҫРәСғРҝР°СҸ РәР°СҖСӮСғ, Рқ. СҒРәазал РіСҖ. Рў-РјСғ: В«Рҙай СӮСғза». Р“СҖ. Рў. РҝРҫР»Рҫжил РәР°СҖСӮСӢ, Р·Р°СҒСғСҮРёР» СҖСғРәава СҖСғРұахи Рё, РІСӢСҒСӮавСҸ РәСғлаРәРё, РІРҫР·СҖазил СҒ СғР»СӢРұРәРҫР№: «извРҫР»СҢВ» *. РӯСӮРҫ РұСӢла СҲСғСӮРәР°, РҪРҫ РҪРөСҖазРұРҫСҖСҮРёРІР°СҸ, Рё Рқ. РҫРұРёРҙРөР»СҒСҸ РіСҖСғРұСӢРј РәаламРұСғСҖРҫРј, РұСҖРҫСҒРёР» РәР°СҖСӮСӢ Рё, СҒРәазав: В«РҹРҫСҒСӮРҫР№ Р¶Рө, СҸ Рҙам СӮРөРұРө СӮСғР·Р°!В» - РІСӢСҲРөР» РёР· РәРҫРјРҪР°СӮСӢ. РңСӢ СғРҝРҫСӮСҖРөРұили РІСҒРө СҒСҖРөРҙСҒСӮРІР°, СҮСӮРҫРұСӢ СғСҒРҝРҫРәРҫРёСӮСҢ Рқ. Рё РҙажРө СғРұРөРҙили РӨ.Рҳ. РёР·РІРёРҪРёСӮСҢСҒСҸ Рё РҝРёСҒСҢРјРөРҪРҪРҫ РҫРұСҠСҸРІРёСӮСҢ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РҪРө РёРјРөР» РҪамРөСҖРөРҪРёСҸ РҫСҒРәРҫСҖРұРёСӮСҢ РөРіРҫ, РҪРҫ Рқ. РұСӢР» РҪРөРҝСҖРөРәР»РҫРҪРөРҪ Рё С…РҫСӮРөР» РҪРөРҝСҖРөРјРөРҪРҪРҫ СҒСӮСҖРөР»СҸСӮСҢСҒСҸ, РіРҫРІРҫСҖСҸ, СҮСӮРҫ РөСҒли РұСӢ РҙСҖСғРіРҫР№ СҒРәазал РөРјСғ СҚСӮРҫ, СӮРҫ РҫРҪ РҝРөСҖРІСӢР№ РұСӢ РҝРҫСҒРјРөСҸР»СҒСҸ, РҪРҫ РҫСӮ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ РҙСғСҚлиСҒСӮР°, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РҝСҖРёРІСӢРә влаСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ РҪР°Рҙ РҙСҖСғРіРёРјРё СҒСӮСҖахРҫРј, РҫРҪ РҪРө СҒСӮРөСҖРҝРёСӮ РҪРёРәР°РәРҫРіРҫ РҪРөРҝСҖилиСҮРҪРҫРіРҫ СҒР»РҫРІР°. РқР°РҙРҫРұРҪРҫ РұСӢР»Рҫ РҙСҖР°СӮСҢСҒСҸ. РҡРҫРіРҙР° РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРё СҒСӮали РҪР° РјРөСҒСӮРҫ, Рқ. СҒРәазал Рў-РјСғ: «ЗРҪай, СҮСӮРҫ РөСҒли СӮСӢ РҪРө РҝРҫРҝР°РҙРөСҲСҢ, СӮРҫ СҸ СғРұСҢСҺ СӮРөРұСҸ, РҝСҖРёСҒСӮавив РҝРёСҒСӮРҫР»РөСӮ РәРҫ Р»РұСғ! РҹРҫСҖР° СӮРөРұРө РәРҫРҪСҮРёСӮСҢ!В» - В«РҡРҫРіРҙР° СӮР°Рә, СӮР°Рә РІРҫСӮ СӮРөРұРөВ», - РҫСӮРІРөСӮРёР» Рў., РҝСҖРҫСӮСҸРҪСғР» СҖСғРәСғ, РІСӢСҒСӮСҖРөлил Рё РҝРҫРҝал РІ РұРҫРә РқР°СҖСӢСҲРәРёРҪСғ. Р Р°РҪР° РұСӢла СҒРјРөСҖСӮРөР»СҢРҪР°; Рқ. СғРјРөСҖ РҪР° СӮСҖРөСӮРёР№ РҙРөРҪСҢ".
* "ДаСӮСҢ СӮСғР·Р°" Р·РҪР°СҮРёСӮ СғРҙР°СҖРёСӮСҢ, РҫСӮСҒСҺРҙР° СҒР»РҫРІРҫ "СӮСғР·РёСӮСҢ".
"Р’СҒР»РөРҙ Р·Р° СҚСӮРёРј, - РҝРёСҲРөСӮ Р’РёРіРөР»СҢ, - РіРІР°СҖРҙРёСҸ РІСӢСҒСӮСғРҝила РҫРұСҖР°СӮРҪРҫ РҝРҫС…РҫРҙРҫРј РІ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі, РҫСӮРәСғРҙР° РұСӢР»Рҫ РҝСҖРёСҒлаРҪРҫ РҝСҖРёРәазаРҪРёРө РІРөСҒСӮРё РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ Р°СҖРөСҒСӮРҫРІР°РҪРҪСӢРј. РЈ Р’СӢРұРҫСҖРіСҒРәРҫР№ Р·Р°СҒСӮавСӢ РөРіРҫ РҫРҝСҸСӮСҢ РҫСҒСӮР°РҪРҫвили Рё РҝРҫСҒлали РҝСҖСҸРјРҫ РІ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮСҢ. РқРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ Р»РөСӮ РІРөСҖСӮРөР»СҒСҸ РҫРҪ РҫРәРҫР»Рҫ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРіР° Рё РІ СӮСҖРөСӮРёР№ СҖаз РөРҙРІР° СғСҒРҝРөР» РІ РҪРөРіРҫ РҝРҫРҝР°СҒСӮСҢ".
РқРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, РәР°Рә РҙРҫлгРҫ РҝСҖРҫСҒРёРҙРөР» РӨ.Рҳ. РІ Р’СӢРұРҫСҖРіСҒРәРҫР№ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРё. Рһ РөРіРҫ РҝСҖРөРұСӢРІР°РҪРёРё РІ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРё РәРҪСҸР·СҢ Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°РөСӮ СҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№ Р°РҪРөРәРҙРҫСӮ. РҡРҫРіРҙР° РөРјСғ РҝРҫРәазалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ СҒСҖРҫРә РөРіРҫ Р°СҖРөСҒСӮР° РјРёРҪРҫвал, РҫРҪ СҒСӮал РұРҫРјРұР°СҖРҙРёСҖРҫРІР°СӮСҢ РәРҫРјРөРҪРҙР°РҪСӮР° СҖР°РҝРҫСҖСӮами Рё СӮР°Рә РөРјСғ СҚСӮРёРј РҪР°РҙРҫРөР», СҮСӮРҫ СӮРҫСӮ РҝСҖРёСҒлал РөРјСғ" РІСӢРіРҫРІРҫСҖ Рё РҝСҖРөРҙРҝРёСҒР°РҪРёРө РҪРө РҙРҫРәСғСҮР°СӮСҢ РҪР°СҮалСҢСҒСӮРІРҫ. РңалРҫРіСҖамРҫСӮРҪСӢР№ РҝРёСҒР°СҖСҢ РІ СҚСӮРҫР№ РұСғмагРө РіРҙРө-СӮРҫ РҪРөСғРјРөСҒСӮРҪРҫ РҝРҫСҒСӮавил РІРҫРҝСҖРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ Р·РҪР°Рә. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СғС…РІР°СӮРёР»СҒСҸ Р·Р° СҚСӮРҫСӮ Р·РҪР°Рә РәР°Рә Р·Р° РҝСҖРөРҙР»РҫРі СҒРҪРҫРІР° РҝСҖРёРҪСҸСӮСҢСҒСҸ Р·Р° РҝРөСҖРҫ. РһРҪ РҪР°РҝРёСҒал: "РҹРөСҖРөСҮРёСӮСӢРІР°СҸ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҖаз СҒ РҙРҫлжРҪСӢРј РІРҪРёРјР°РҪРёРөРј Рё РҝРҫРәРҫСҖРҪРҫСҒСӮСҢСҺ РҝСҖРөРҙРҝРёСҒР°РҪРёРө РІР°СҲРөРіРҫ РҝСҖРөРІРҫСҒС…РҫРҙРёСӮРөР»СҢСҒСӮРІР°, РҫСӮСӢСҒРәал СҸ РІ РҪРөРј РІРҫРҝСҖРҫСҒРёСӮРөР»СҢРҪСӢР№ Р·РҪР°Рә, РҪР° РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІРјРөРҪСҸСҺ СҒРөРұРө РІ РҪРөРҝСҖРөРјРөРҪРҪСғСҺ РҫРұСҸР·Р°РҪРҪРҫСҒСӮСҢ РҫСӮРІРөСӮСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢ". Рҳ СҒРҪРҫРІР° РҫРҪ РҪР°СҮал РҝРёСҒР°СӮСҢ СҒРІРҫРё жалРҫРұСӢ Рё СӮСҖРөРұРҫРІР°РҪРёСҸ.
РҹРҫСҒР»Рө Р·Р°РәР»СҺСҮРөРҪРёСҸ РІ РәСҖРөРҝРҫСҒСӮРё РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ, СҒРҫглаСҒРҪРҫ СҖазРҪСӢРј РјРөРјСғР°СҖам Рё СҒРөРјРөР№РҪРҫРјСғ РҝСҖРөРҙР°РҪРёСҺ, РұСӢР» СҖазжалРҫРІР°РҪ РІ СҖСҸРҙРҫРІСӢРө. РҹСҖСҸРјРҫРіРҫ РҙРҫРәСғРјРөРҪСӮалСҢРҪРҫРіРҫ РҙРҫРәазаСӮРөР»СҢСҒСӮРІР° СҚСӮРҫРјСғ РҪРөСӮ. Р’ РёСҒСӮРҫСҖРёРё РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРіРҫ РҝРҫР»РәР° РәРҫСҖРҫСӮРәРҫ СҒРәазаРҪРҫ, СҮСӮРҫ РіСҖаф РӨ.Рҳ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РұСӢР» 2 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1811 РіРҫРҙР° "СғРІРҫР»РөРҪ РҫСӮ СҒР»СғР¶РұСӢ", РҪРҫ РҪРө РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҒСҸ, РәР°РәРёРј СҮРёРҪРҫРј РҫРҪ РұСӢР» СғРІРҫР»РөРҪ, Р° РІ замРөСӮРәРө Рә РөРіРҫ РҝРҫСҖСӮСҖРөСӮСғ СҒРәазаРҪРҫ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РІСӢСҲРөР» РІ РҫСӮСҒСӮавРәСғ РҝРҫРҙРҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРәРҫРј. РһСӮСҒСҺРҙР°, РҫРҙРҪР°РәРҫ, РҪРө СҒР»РөРҙСғРөСӮ, СҮСӮРҫ РҫРҪ СҖазжалРҫРІР°РҪ РҪРө РұСӢР». РҹРҫСҒР»Рө СҖазжалРҫРІР°РҪРёСҸ РҫРҪ РјРҫРі РұСӢСӮСҢ РҝСҖРҫСүРөРҪ Рё РІРҪРҫРІСҢ РҝСҖРҫРёР·РІРөРҙРөРҪ РІ РҫфиСҶРөСҖСҒРәРёР№ СҮРёРҪ. Р—Р°СӮРөРј РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, СҮСӮРҫ РІ 1812 РіРҫРҙСғ РҫРҪ СғР¶Рө РҪРө РұСӢР» РІРҫРөРҪРҪСӢРј, Р° жил СҮР°СҒСӮРҪСӢРј СҮРөР»РҫРІРөРәРҫРј РІ СҒРІРҫРөР№ РҡалСғР¶СҒРәРҫР№ РҙРөСҖРөРІРҪРө. Р’ 1812 РіРҫРҙСғ РҫРҪ РҫРҝСҸСӮСҢ РҝРҫСҒСӮСғРҝРёР» РҪР° СҒР»СғР¶РұСғ РІ РәР°СҮРөСҒСӮРІРө СҖР°СӮРҪРёРәР° РјРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РҫРҝРҫР»СҮРөРҪРёСҸ. РқР° РІРҫР№РҪРө РҫРҪ РІРөСҖРҪСғР» СҒРөРұРө СҮРёРҪ Рё РҫСҖРҙРөРҪР° Рё РұРөР·СғРјРҪРҫР№ С…СҖР°РұСҖРҫСҒСӮСҢСҺ Р·Р°СҒР»Сғжил Р“РөРҫСҖРіРёСҸ 4-РҫР№ СҒСӮРөРҝРөРҪРё. РҹСҖРё Р‘РҫСҖРҫРҙРёРҪРө РҫРҪ РұСӢР» СӮСҸР¶РөР»Рҫ СҖР°РҪРөРҪ РІ РҪРҫРіСғ.
Рһ СҒРІРҫРөР№ РІСҒСӮСҖРөСҮРө СҒ РҪРёРј РҝРҫРҙ Р‘РҫСҖРҫРҙРёРҪРҫРј РӣРёРҝСҖР°РҪРҙРё СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°РөСӮ СҒР»РөРҙСғСҺСүРөРө:
"РқР°РәР°РҪСғРҪРө Р‘РҫСҖРҫРҙРёРҪСҒРәРҫРіРҫ СҒСҖажРөРҪРёСҸ РҝРҫРҙ РІРөСҮРөСҖ, РҪахРҫРҙСҸСҒСҢ РҪР° СҒСӮСҖРҫСҺСүРөР№СҒСҸ СҶРөРҪСӮСҖалСҢРҪРҫР№ РұР°СӮР°СҖРөРө, СҸ СғСҒР»СӢСҲал, СҮСӮРҫ РәСӮРҫ-СӮРҫ РҫСӮСӢСҒРәРёРІР°РөСӮ РәР°РәРҫРіРҫ-СӮРҫ РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРәР° РіСҖафа РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ. РһРәазалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РјРҫР№ СҒСӮР°СҖСӢР№ Р·РҪР°РәРҫРјСӢР№, РІ СӮРҫ РІСҖРөРјСҸ РҪР°СҮалСҢРҪРёРә РҫРҝРҫР»СҮРөРҪРёСҸ; РҫРҪ РёР· Р»СҺРұРҫРҝСӢСӮСҒСӮРІР° РҝРҫСҲРөР» РІ СҶРөРҝСҢ РҝРҫСҒРјРҫСӮСҖРөСӮСҢ С„СҖР°РҪСҶСғР·РҫРІ. ЕгРҫ СҒРәРҫСҖРҫ РҫСӮСӢСҒРәали; РјСӢ СғСҒРҝРөли СӮРҫР»СҢРәРҫ СҖазмРөРҪСҸСӮСҢСҒСҸ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРёРјРё СҒР»Рҫвами Рё РҝРҫРјСҸРҪСғСӮСҢ РәРҪСҸР·СҸ (Р”РҫлгРҫСҖСғРәРҫРІР°). РЎРәазав РјРҪРө, РіРҙРө Рё СҮРөРј РҫРҪ РәРҫРјР°РҪРҙСғРөСӮ, РҫРҪ РҝРҫСҒРәР°Рәал РҪР° РҝСҖРёР·СӢРІ, 28-РіРҫ, РҙРҫ СҖР°СҒСҒРІРөСӮР°, РҫСӮРҝСҖавлСҸСҸСҒСҢ РёР· РңРҫжайСҒРәР° СҒ РәРІР°СҖСӮРёСҖСҢРөСҖами Рә РҡСҖСӢРјСҒРәРҫРјСғ РұСҖРҫРҙСғ Рё РҫРұРіРҫРҪСҸСҸ РұРөСҒСҮРёСҒР»РөРҪРҪСӢРө РҫРұРҫР·СӢ, СҸ СғСҒР»СӢСҲал РёР· РҫРҙРҪРҫРіРҫ СҚРәРёРҝажа РіРҫР»РҫСҒ РіСҖафа. РҜ РҝРҫРҙСҠРөхал Рә РҪРөРјСғ. РһРҪ РұСӢР» СҖР°РҪРөРҪ РІ РҪРҫРіСғ Рё РҝСҖРөРҙР»Рҫжил РјРҪРө РјР°РҙРөСҖСӢ. РҜ РәРҫРө-РәР°Рә РІСӢРҝСҖРҫРІРҫРҙРёР» РөРіРҫ РёР· СҖСҸРҙР° РҝРҫРІРҫР·РҫРә, Рё РјСӢ СҖР°СҒСҒСӮалиСҒСҢ".
РҳР· СҚСӮРҫРіРҫ РҫСӮСҖСӢРІРәР° РәР°Рә РұСғРҙСӮРҫ СҒР»РөРҙСғРөСӮ, СҮСӮРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҝСҖРё Р‘РҫСҖРҫРҙРёРҪРө РұСӢР» СғР¶Рө РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРәРҫРј. Р’ СҚСӮРҫРј, РҫРҙРҪР°РәРҫ, РјРҫР¶РҪРҫ СғСҒСғРјРҪРёСӮСҢСҒСҸ. Р’РөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, РӣРёРҝСҖР°РҪРҙРё РҪазСӢРІР°РөСӮ РөРіРҫ РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРәРҫРј РҝРҫСӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РәРҫРјР°РҪРҙРҫвал РәР°РәРёРј-РҪРёРұСғРҙСҢ РҫСӮСҖСҸРҙРҫРј РҫРҝРҫР»СҮРөРҪРёСҸ; СҚСӮРҫ РҪРө Р·РҪР°СҮРёСӮ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РұСӢР» РІ СҮРёРҪРө РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРәР°.
Р“РӣРҗР’Рҗ IV
Р–РёР·РҪСҢ РІ РңРҫСҒРәРІРө. РһРҝСҸСӮСҢ РҙСғСҚли. РҡР°СҖСӮРөР¶РҪР°СҸ РёРіСҖР°. РҹСҖРёСҸСӮРөли. Р–РөРҪРёСӮСҢРұР°.
РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РІСӢСҲРөР» РІ РҫСӮСҒСӮавРәСғ РҝРҫР»РәРҫРІРҪРёРәРҫРј Рё РҝРҫСҒРөлилСҒСҸ РІ РңРҫСҒРәРІРө, РІ РЎСӮР°СҖРҫРәРҫРҪСҺСҲРөРҪРҪРҫРј РҝРөСҖРөСғР»РәРө, РёР·СҖРөРҙРәР° РҪР°РөзжаСҸ РІ РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРі Рё РҝСҖРҫРІРҫРҙСҸ Р»РөСӮРҫ РІ СҒРІРҫРөР№ РҝРҫРҙРјРҫСҒРәРҫРІРҪРҫР№ РҙРөСҖРөРІРҪРө. РҡР°Рә РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪСӢР№ СҮРөР»РҫРІРөРә Рё РәР°Рә РҫРҙРёРҪ РёР· РіРөСҖРҫРөРІ РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ РІРҫР№РҪСӢ, РҫРҪ Р·Р°РҪСҸР» РІРёРҙРҪРҫРө РјРөСҒСӮРҫ РІ РјРҫСҒРәРҫРІСҒРәРҫРј СҒРІРөСӮСҒРәРҫРј РҫРұСүРөСҒСӮРІРө. ДамСӢ РұРөгали Р·Р° РҪРёРј. РһРҙРҪР°РәРҫ РөРіРҫ РҝРҫРІРөРҙРөРҪРёРө РҪРө РёР·РјРөРҪРёР»РҫСҒСҢ Рә Р»СғСҮСҲРөРјСғ. РһРҪ СҖазвРөР» РөСүРө РұРҫР»РөРө СҲРёСҖРҫРәСғСҺ РәР°СҖСӮРҫСҮРҪСғСҺ РёРіСҖСғ, Рё РҫРҝСҸСӮСҢ Сғ РҪРөРіРҫ РұСӢли РҙСғСҚли - СҒ РәРөРј Рё СҒ РәР°РәРёРј СҖРөР·СғР»СҢСӮР°СӮРҫРј, СҒРІРөРҙРөРҪРёР№ РҪРөСӮ. РҡамРөРҪСҒРәР°СҸ РҝРёСҲРөСӮ, СҮСӮРҫ РІ РҝСҖРҫРҙРҫлжРөРҪРёРө РІСҒРөР№ РөРіРҫ жизРҪРё РёРј СғРұРёСӮРҫ РҪР° РҙСғСҚР»СҸС… РҫРҙРёРҪРҪР°РҙСҶР°СӮСҢ СҮРөР»РҫРІРөРә. Р’РөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, СҚСӮРҫ СҮРёСҒР»Рҫ РҝСҖРөСғРІРөлиСҮРөРҪРҫ. Р•СҒли Р¶Рө СҚСӮРҫ РІРөСҖРҪРҫ, СӮРҫ РҙСғСҚР»РөР№ Сғ РҪРөРіРҫ РұСӢР»Рҫ РҪРө 11, Р° РұРҫР»СҢСҲРө РҪРөР»СҢР·СҸ Р¶Рө РҝСҖРөРҙРҝРҫлагаСӮСҢ, СҮСӮРҫ РәажРҙР°СҸ РөРіРҫ РҙСғСҚР»СҢ РәРҫРҪСҮалаСҒСҢ СҒРјРөСҖСӮСҢСҺ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР°!
РҹСҖРҫ РҫРҙРҪСғ РөРіРҫ РҙСғСҚР»СҢ, РәРҫРіРҙР° РҫРҪ СҒСӮСҖРөР»СҸР»СҒСҸ Р·Р° СҒРІРҫРөРіРҫ РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҸ, СҒСғСүРөСҒСӮРІСғРөСӮ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҖР°СҒСҒРәазРҫРІ, РұРҫР»РөРө или РјРөРҪРөРө Р»РөРіРөРҪРҙР°СҖРҪСӢС…. РқРҫРІРҫСҒРёР»СҢСҶРөРІР° РҝРёСҲРөСӮ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫСӮ РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҢ РұСӢР» Рҹ.Рҗ. РқР°СүРҫРәРёРҪ, РҪРҫ РҙРҫСҮСҢ РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР° РҹРөСҖфилСҢРөРІР° СғСӮРІРөСҖР¶РҙР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РөРө РҫСӮРөСҶ РҪРёРәРҫРіРҙР° РҪРө РҙСҖалСҒСҸ РҪР° РҙСғСҚли РІРјРөСҒСӮРҫ РқР°СүРҫРәРёРҪР°.
Рҗ. Рҗ. РЎСӮахРҫРІРёСҮ РІ СҒРІРҫРёС… "РҡР»РҫСҮРәах РІРҫСҒРҝРҫРјРёРҪР°РҪРёР№" РҝСҖРёРІРҫРҙРёСӮ СҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№ СҖР°СҒСҒРәаз, РҪРө СҖСғСҮР°СҸСҒСҢ Р·Р° РөРіРҫ РҙРҫСҒСӮРҫРІРөСҖРҪРҫСҒСӮСҢ:
"РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РұСӢР» РҙСҖСғР¶РөРҪ СҒ РҫРҙРҪРёРј РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢРј РҝРҫСҚСӮРҫРј, лихим РәСғСӮРёР»РҫР№ Рё РҫСҒСӮСҖРҫСғРјРҪСӢРј СҮРөР»РҫРІРөРәРҫРј, РҫСҒСӮСҖРҫСӮСӢ РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РұСӢвали СҮРөСҖРөСҒСҮСғСҖ РәРҫР»РәРё Рё СҸР·РІРёСӮРөР»СҢРҪСӢ. Раз, РҪР° РҫРҙРҪРҫР№ С…РҫР»РҫСҒСӮРҫР№ РҝРёСҖСғСҲРәРө, РҫРҙРёРҪ РјРҫР»РҫРҙРҫР№ СҮРөР»РҫРІРөРә РҪРө РІСӢРҪРөСҒ РөРіРҫ РҪР°СҒРјРөСҲРөРә Рё РІСӢзвал РҫСҒСӮСҖСҸРәР° РҪР° РҙСғСҚР»СҢ. РһР·Р°РҙР°СҮРөРҪРҪСӢР№ Рё РҫСӮСҮР°СҒСӮРё СҒРәРҫРҪС„СғР¶РөРҪРҪСӢР№, РҝРҫСҚСӮ РҝРөСҖРөРҙал РҫРұ СҚСӮРҫРј В«РҪРөРҫжиРҙР°РҪРҪРҫРј РҝР°СҒСҒажРөВ» СҒРІРҫРөРјСғ РҙСҖСғРіСғ РўРҫР»СҒСӮРҫРјСғ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІ СҒРҫСҒРөРҙРҪРөР№ РәРҫРјРҪР°СӮРө РјРөСӮал РұР°РҪРә. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҝРөСҖРөРҙал РәРҫРјСғ-СӮРҫ РјРөСӮР°СӮСҢ РұР°РҪРә, РҝРҫСҲРөР» РІ РҙСҖСғРіСғСҺ РәРҫРјРҪР°СӮСғ Рё, РҪРө РіРҫРІРҫСҖСҸ РҪРё СҒР»РҫРІР°, Рҙал РҝРҫСүРөСҮРёРҪСғ РјРҫР»РҫРҙРҫРјСғ СҮРөР»РҫРІРөРәСғ, РІСӢзвавСҲРөРјСғ РҪР° РҙСғСҚР»СҢ РөРіРҫ РҙСҖСғРіР°. Р РөСҲРөРҪРҫ РұСӢР»Рҫ РҙСҖР°СӮСҢСҒСҸ СӮРҫСӮСҮР°СҒ Р¶Рө; РІСӢРұСҖали СҒРөРәСғРҪРҙР°РҪСӮРҫРІ, СҒРөли РҪР° СӮСҖРҫР№РәРё, РҝСҖРёРІРөР·СҲРёРө СҶСӢРіР°РҪ, Рё РҝРҫСҒРәР°Рәали Р·Р° РіРҫСҖРҫРҙ. Р§РөСҖРөР· СҮР°СҒ РўРҫР»СҒСӮРҫР№, СғРұРёРІ СҒРІРҫРөРіРҫ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәР°, РІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ Рё, СҲРөРҝРҪСғРІ СҒРІРҫРөРјСғ РҙСҖСғРіСғ, СҮСӮРҫ СҒСӮСҖРөР»СҸСӮСҢСҒСҸ РөРјСғ РҪРө РҝСҖРёРҙРөСӮСҒСҸ, СҒРҝРҫРәРҫР№РҪРҫ РҝСҖРҫРҙРҫлжал РјРөСӮР°СӮСҢ РұР°РҪРә"
РҜ СҒР»СӢСҲал РҫСӮ РјРҫРөРіРҫ РҫСӮСҶР° СҒР»РөРҙСғСҺСүСғСҺ РІРөСҖСҒРёСҺ СҚСӮРҫРіРҫ СҖР°СҒСҒРәаза: РҪР° РҫРҙРҪРҫРј РІРөСҮРөСҖРө РҫРҙРёРҪ РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҢ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ СҒРҫРҫРұСүРёР» РөРјСғ, СҮСӮРҫ СӮРҫР»СҢРәРҫ СҮСӮРҫ РұСӢР» РІСӢР·РІР°РҪ РҪР° РҙСғСҚР»СҢ, Рё РҝСҖРҫСҒРёР» РөРіРҫ РұСӢСӮСҢ РөРіРҫ СҒРөРәСғРҪРҙР°РҪСӮРҫРј. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҒРҫглаСҒРёР»СҒСҸ, Рё РҙСғСҚР»СҢ РұСӢла РҪазРҪР°СҮРөРҪР° РҪР° РҙСҖСғРіРҫР№ РҙРөРҪСҢ РІ 11 СҮР°СҒРҫРІ СғСӮСҖР°; РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҢ РҙРҫлжРөРҪ РұСӢР» Р·Р°РөС…Р°СӮСҢ Рә РўРҫР»СҒСӮРҫРјСғ Рё РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҪРёРј РөС…Р°СӮСҢ РҪР° РјРөСҒСӮРҫ РҙСғСҚли. РқР° РҙСҖСғРіРҫР№ РҙРөРҪСҢ РІ СғСҒР»РҫРІР»РөРҪРҪРҫРө РІСҖРөРјСҸ РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҢ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РҝСҖРёРөхал Рә РҪРөРјСғ, Р·Р°СҒСӮал РөРіРҫ СҒРҝСҸСүРёРј Рё СҖазРұСғРҙРёР».
- Р’ СҮРөРј РҙРөР»Рҫ? - СҒРҝСҖРҫСҒРҫРҪСҢСҸ СҒРҝСҖРҫСҒРёР» РўРҫР»СҒСӮРҫР№.
- РазвРө СӮСӢ Р·Р°РұСӢР», - СҖРҫРұРәРҫ СҒРҝСҖРҫСҒРёР» РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҢ, СҮСӮРҫ СӮСӢ РҫРұРөСүал РјРҪРө РұСӢСӮСҢ РјРҫРёРј СҒРөРәСғРҪРҙР°РҪСӮРҫРј?
- РӯСӮРҫ СғР¶Рө РҪРө РҪСғР¶РҪРҫ, - РҫСӮРІРөСӮРёР» РўРҫР»СҒСӮРҫР№. - РҜ РөРіРҫ СғРұРёР».
РһРәазалРҫСҒСҢ, СҮСӮРҫ РҪР°РәР°РҪСғРҪРө РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РҪРө РіРҫРІРҫСҖСҸ РҪРё СҒР»РҫРІР° СҒРІРҫРөРјСғ РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҺ, РІСӢзвал РөРіРҫ РҫРұРёРҙСҮРёРәР°, СғСҒР»РҫРІРёР»СҒСҸ СҒСӮСҖРөР»СҸСӮСҢСҒСҸ РІ 6 СҮР°СҒРҫРІ СғСӮСҖР°, СғРұРёР» РөРіРҫ, РІРөСҖРҪСғР»СҒСҸ РҙРҫРјРҫР№ Рё Р»РөРі СҒРҝР°СӮСҢ.
"РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РІСӢРёРіСҖСӢвал РҫРіСҖРҫРјРҪСӢРө СҒСғРјРјСӢ, - РҝРёСҲРөСӮ РӨР°РҙРҙРөР№ Р‘СғлгаСҖРёРҪ, - РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СӮСҖР°СӮРёР» РҪР° РәСғСӮРөжи. Р’ СӮРө РІСҖРөРјРөРҪР° РІРөлаСҒСҢ РҝРҫРІСҒСҺРҙСғ РұРҫР»СҢСҲР°СҸ РәР°СҖСӮРҫСҮРҪР°СҸ РёРіСҖР°, РҫСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РІ РІРҫР№СҒРәРө. РҳРіСҖали РҫРұСӢРәРҪРҫРІРөРҪРҪРҫ РІ азаСҖСӮРҪСӢРө РёРіСҖСӢ, РІ РәРҫСӮРҫСҖСӢС… С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖ РёРіСҖРҫРәР° РҙР°РөСӮ РҝСҖРөРёРјСғСүРөСҒСӮРІРҫ РҪР°Рҙ РҝСҖРҫСӮРёРІРҪРёРәРҫРј Рё РҝРҫРұРөР¶РҙР°РөСӮ СҒамРҫРө СҒСҮР°СҒСӮСҢРө. РӣСҺРұРёРјСӢРө РёРіСҖСӢ РұСӢли: РәРІРёРҪСӮРёСҮ, галСҢРұРө-СҶРІРөР»СҢРІРө, СҖСғСҒСҒРәР°СҸ РіРҫСҖРәР°, СӮ.Рө. СӮРө РёРіСҖСӢ, РіРҙРө РҪР°РҙРҫ РҝСҖРёРәСғРҝР°СӮСҢ РәР°СҖСӮСӢ. РҹРҫРёРіСҖав РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё СҒ СҮРөР»РҫРІРөРәРҫРј, РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҖазгаРҙСӢвал РөРіРҫ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖ Рё РёРіСҖСғ, РҝРҫ лиСҶСғ СғР·РҪавал, Рә РәР°РәРёРј РјР°СҒСӮСҸРј или РәР°СҖСӮам РҫРҪ РҝСҖРёРәСғРҝР°РөСӮ, Р° СҒам РұСӢР» СӮСғСӮ РҙР»СҸ РІСҒРөС… загаРҙРәРҫР№, влаРҙРөСҸ физиРҫРҪРҫРјРёРөР№ РҝРҫ РҝСҖРҫРёР·РІРҫР»Сғ. РўР°РәРёРјРё СҒСӮСҖР°СӮагРөмами РҫРҪ СҖазил СҒРІРҫРёС… РәР°СҖСӮРөР¶РҪСӢС… СҒРҫРІРјРөСҒСӮРҪРёРәРҫРІ".
РўР°Рә РҝРёСҲРөСӮ Р‘СғлгаСҖРёРҪ, РҪРҫ РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, СҮСӮРҫ РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҪРө РҙРҫРІРҫР»СҢСҒСӮРІРҫвалСҒСҸ РҫРҙРҪРёРјРё "СҒСӮСҖР°СӮагРөмами" Рё РҪРөСҖРөРҙРәРҫ РёРіСҖал РҪРөРҙРҫРұСҖРҫСҒРҫРІРөСҒСӮРҪРҫ; СҒлава Рҫ РҪРөРј РәР°Рә Рҫ СҲСғР»РөСҖРө РҝСҖРҫСҮРҪРҫ СғСҒСӮР°РҪРҫвилаСҒСҢ; РҫРұ СҚСӮРҫРј РјСӢ РёРјРөРөРј СҒРІРёРҙРөСӮРөР»СҢСҒСӮРІР° РҹСғСҲРәРёРҪР°, Р“СҖРёРұРҫРөРҙРҫРІР°, РјРҪРҫРіРёС… РҙСҖСғРіРёС… Рё, РҪР°РәРҫРҪРөСҶ, РөРіРҫ СҒамРҫРіРҫ.
РқРҫРІРҫСҒРёР»СҢСҶРөРІР° РҝРөСҖРөРҙР°РөСӮ СӮР°РәРҫР№ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРҪСӢР№, РҪРҫ Р»РөРіРөРҪРҙР°СҖРҪСӢР№ СҖР°СҒСҒРәаз:
"Шла Р°РҙСҒРәР°СҸ РёРіСҖР° РІ РәР»СғРұРө. Р’СҒРө СҖазСҠРөхалиСҒСҢ, РҫСҒСӮалиСҒСҢ СӮРҫР»СҢРәРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Рё РқР°СүРҫРәРёРҪ. РҹСҖРё СҖР°СҒСҮРөСӮРө РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҫРұСҠСҸРІРёР», СҮСӮРҫ РқР°СүРҫРәРёРҪ РөРјСғ РҙРҫлжРөРҪ 20 000 СҖ.
- РҜ РҪРө Р·Р°РҝлаСҮСғ, - СҒРәазал РқР°СүРҫРәРёРҪ, - РІСӢ РёС… Р·Р°РҝРёСҒали, РҪРҫ СҸ РёС… РҪРө РҝСҖРҫРёРіСҖал.
- РңРҫР¶РөСӮ РұСӢСӮСҢ, - РҫСӮРІРөСҮал РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ, - РҪРҫ СҸ РҝСҖРёРІСӢРә СҖСғРәРҫРІРҫРҙСҒСӮРІРҫРІР°СӮСҢСҒСҸ СҒРІРҫРөР№ Р·Р°РҝРёСҒСҢСҺ Рё РҙРҫРәажСғ СҚСӮРҫ вам.
РһРҪ РІСҒСӮал, Р·Р°РҝРөСҖ РҙРІРөСҖСҢ, РҝРҫР»Рҫжил РҪР° СҒСӮРҫР» РҝРёСҒСӮРҫР»РөСӮ Рё СҒРәазал:
- РһРҪ Р·Р°СҖСҸР¶РөРҪ, Р·Р°РҝлаСӮРёСӮРө или РҪРөСӮ? - РқРөСӮ.
- РҜ вам РҙР°СҺ 10 РјРёРҪСғСӮ РҪР° СҖазмСӢСҲР»РөРҪРёРө. РқР°СүРҫРәРёРҪ РІСӢРҪСғР» РёР· РәР°СҖРјР°РҪР° СҮР°СҒСӢ Рё РұСғмажРҪРёРә Рё СҒРәазал:
- ЧаСҒСӢ РјРҫРіСғСӮ СҒСӮРҫРёСӮСҢ 500 СҖ., РІ РұСғмажРҪРёРәРө 25 СҖ. Р’РҫСӮ РІСҒРө, СҮСӮРҫ вам РҙРҫСҒСӮР°РҪРөСӮСҒСҸ, РөСҒли РІСӢ РјРөРҪСҸ СғРұСҢРөСӮРө, Р° СҮСӮРҫРұСӢ СҒРәСҖСӢСӮСҢ РҝСҖРөСҒСӮСғРҝР»РөРҪРёРө, вам РҝСҖРёРҙРөСӮСҒСҸ Р·Р°РҝлаСӮРёСӮСҢ РҪРө РҫРҙРҪСғ СӮСӢСҒСҸСҮСғ. РҡР°РәРҫР№ Р¶Рө вам СҖР°СҒСҮРөСӮ РјРөРҪСҸ СғРұРёРІР°СӮСҢ?
- РңРҫР»РҫРҙРөСҶ, - РәСҖРёРәРҪСғР» РўРҫР»СҒСӮРҫР№, - РҪР°РәРҫРҪРөСҶ-СӮРҫ СҸ РҪР°СҲРөР» СҮРөР»РҫРІРөРәР°!
РЎ СҚСӮРҫРіРҫ РҙРҪСҸ РҫРҪРё СҒСӮали РҪРөСҖазлСғСҮРҪСӢРјРё РҙСҖСғР·СҢСҸРјРё".
Рҹ.РӨ.РҹРөСҖфилСҢРөРІР° РІ СҒРІРҫРөРј РІРҫР·СҖажРөРҪРёРё РқРҫРІРҫСҒРёР»СҢСҶРөРІРҫР№ СҒ РҪРөРіРҫРҙРҫРІР°РҪРёРөРј РіРҫРІРҫСҖРёСӮ, СҮСӮРҫ СҒСҶРөРҪР°, РҝРҫРҙРҫРұРҪР°СҸ РҫРҝРёСҒР°РҪРҪРҫР№, РҪРөРІРҫР·РјРҫР¶РҪР° РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РІ РҗРҪглийСҒРәРҫРј РәР»СғРұРө, РҪРҫ Рё РІ Р»СҺРұРҫРј СҲСғСҒСӮРөСҖ-РәР»СғРұРө, Рё СҮСӮРҫ РөРө РҫСӮРөСҶ РҪРёРәРҫРіРҙР° РҪРө РҪРҫСҒРёР» СҒ СҒРҫРұРҫР№ РҝРёСҒСӮРҫР»РөСӮР°. РқРҫ РөСҒли СҚСӮР° СҒСҶРөРҪР° РҝСҖРҫРёР·РҫСҲла РҪРө РІ РәР»СғРұРө Рё РҪРө СҒ РқР°СүРҫРәРёРҪСӢРј Рё РөСҒли РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҪРө РҪРҫСҒРёР» СҒ СҒРҫРұРҫР№ РҝРёСҒСӮРҫР»РөСӮР°, СӮРҫ РІСҒРө Р¶Рө, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РіРҙРө-СӮРҫ, СҒ РәРөРј-СӮРҫ СҖазСӢРіСҖал СҒСҶРөРҪСғ РҝРҫРҙРҫРұРҪСғСҺ РҫРҝРёСҒР°РҪРҪРҫР№.
РҜ СҒР»СӢСҲал, РҪР°СҒРәРҫР»СҢРәРҫ РјРҪРө РҝРҫРјРҪРёСӮСҒСҸ, РҫСӮ РјРҫРөРіРҫ РҫСӮСҶР°, СӮР°РәСғСҺ РІРөСҖСҒРёСҺ СҚСӮРҫРіРҫ СҖР°СҒСҒРәаза:
- Р“СҖаф, РІСӢ РҝРөСҖРөРҙРөСҖРіРёРІР°РөСӮРө, - СҒРәазал РөРјСғ РәСӮРҫ-СӮРҫ, РёРіСҖР°СҸ СҒ РҪРёРј РІ РәР°СҖСӮСӢ, - СҸ СҒ вами РұРҫР»СҢСҲРө РҪРө РёРіСҖР°СҺ.
- Да, СҸ РҝРөСҖРөРҙРөСҖРіРёРІР°СҺ, - СҒРәазал РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ, - РҪРҫ РҪРө Р»СҺРұР»СҺ, РәРҫРіРҙР° РјРҪРө СҚСӮРҫ РіРҫРІРҫСҖСҸСӮ. РҹСҖРҫРҙРҫлжайСӮРө РёРіСҖР°СӮСҢ, Р° СӮРҫ СҸ СҖазмРҫжжСғ вам РіРҫР»РҫРІСғ СҚСӮРёРј СҲР°РҪРҙалРҫРј.
Рҳ РөРіРҫ РҝР°СҖСӮРҪРөСҖ РҝСҖРҫРҙРҫлжал РёРіСҖР°СӮСҢ Рё... РҝСҖРҫРёРіСҖСӢРІР°СӮСҢ. РқРөСҮСӮРҫ РІ СҚСӮРҫРј Р¶Рө СҖРҫРҙРө СҖР°СҒСҒРәазСӢвал Р’СғР»СҢС„ Рң.Рҳ. РЎРөРјРөРІСҒРәРҫРјСғ *. РҹРҫ РөРіРҫ СҒР»Рҫвам, РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РёРіСҖР°СҸ СҒ РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј, РҝРөСҖРөРҙРөСҖРҪСғР». РҹСғСҲРәРёРҪ замРөСӮРёР» РөРјСғ СҚСӮРҫ.
- Да, СҸ СҒам СҚСӮРҫ Р·РҪР°СҺ, - РҫСӮРІРөСҮал РўРҫР»СҒСӮРҫР№, - РҪРҫ РҪРө Р»СҺРұР»СҺ, СҮСӮРҫРұСӢ РјРҪРө СҚСӮРҫ замРөСҮали.
Р’СғР»СҢС„ РіРҫРІРҫСҖРёР», СҮСӮРҫ Р·Р° СҚСӮРҫ РҹСғСҲРәРёРҪ РұСғРҙСӮРҫ РұСӢ РҪамРөСҖРөвалСҒСҸ СҒСӮСҖРөР»СҸСӮСҢСҒСҸ СҒ РўРҫР»СҒСӮСӢРј.
РһРҙРҪР°РәРҫ СҚСӮРҫСӮ СҒР»СғСҮай РҪРө РјРҫРі РҝСҖРҫРёР·РҫР№СӮРё СҒ РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј, СҮСӮРҫ РұСғРҙРөСӮ РІРёРҙРҪРҫ РёР· РҙалСҢРҪРөР№СҲРөРіРҫ; РҪРҫ СҮСӮРҫ РҫРҪ РҝСҖРҫРёР·РҫСҲРөР» СҒ РәРөРј-СӮРҫ РҙСҖСғРіРёРј, СҚСӮРҫ РІРҝРҫР»РҪРө РҝСҖавРҙРҫРҝРҫРҙРҫРұРҪРҫ.
* РҹСҖРҫРіСғР»РәР° РІ РўСҖРёРіРҫСҖСҒРәРҫРө // РЎ. -РҹРөСӮРөСҖРұСғСҖРіСҒРәРёРө РІРөРҙРҫРјРҫСҒСӮРё. 1866. в„– 139 (СҶРёСӮРёСҖСғСҺ РҝРҫ РӣРөСҖРҪРөСҖСғ).
Р”.Р’.Р“СҖСғРҙРөРІ СҒР»СӢСҲал РҝСҖРҫ РёРіСҖСғ РӨРөРҙРҫСҖР° РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮР° СҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№ СҖР°СҒСҒРәаз:
"РқР° СҮРөР№-СӮРҫ РІРҫРҝСҖРҫСҒ: «вРөРҙСҢ СӮСӢ РёРіСҖР°РөСҲСҢ РҪавРөСҖРҪСҸРәа», РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҫСӮРІРөСҮал: «ТРҫР»СҢРәРҫ РҙСғСҖР°РәРё РёРіСҖР°СҺСӮ РҪР° СҒСҮР°СҒСӮСҢРөВ». РһРҪ РіРҫРІР°СҖивал, СҮСӮРҫ Сғ РҪРөРіРҫ РөСҒСӮСҢ СҲавРәРё (РҝСҖРөРҙР°РҪРҪСӢРө РөРјСғ Р»СҺРҙРё), РІСҒРөРіРҙР° РҪСғР¶РҪСӢРө РұСғР»СҢРҙРҫРіСғ. Раз СҲавРәРё РҝСҖРёРІРөзли Рә РҪРөРјСғ РҝСҖРёРөР·Р¶РөРіРҫ РәСғРҝСҶР°. РқР°СҮали РёРіСҖР°СӮСҢ, СҒРҪР°СҮала РәР°Рә РұСӢ СҲСғСӮСҸ, РҪР° Р·Р°РәСғСҒРәРё, СғжиРҪ Рё РҝСғРҪСҲ. РӯСӮР° РҫРұСҒСӮР°РҪРҫРІРәР° СҒРҙРөлала СҒРІРҫРө РҙРөР»Рҫ: РәСғРҝРөСҶ захмРөР»РөР», СғРІР»РөРәСҒСҸ Рё РҝСҖРҫРёРіСҖал 17 000 СҖ., a РәРҫРіРҙР° РҝРҫСӮСҖРөРұРҫвалаСҒСҢ СҖР°СҒРҝлаСӮР°, РҫРҪ РҫРұСҠСҸРІРёР», СҮСӮРҫ СӮР°РәРёС… РҙРөРҪРөРі СҒ СҒРҫРұРҫР№ РҪРө РёРјРөРөСӮ.
- РқРёСҮРөРіРҫ, - замРөСӮили РөРјСғ, - РІСҒРө РҝСҖРөРҙСғСҒРјРҫСӮСҖРөРҪРҫ, РөСҒСӮСҢ РіРөСҖРұРҫРІСӢРө РұСғмаги, Рё РҪСғР¶РҪРҫ РҪР°РҝРёСҒР°СӮСҢ СӮРҫР»СҢРәРҫ РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ. РҡСғРҝРөСҶ РҫСӮРәазалСҒСҸ РҪР°РҫСӮСҖРөР·, РҪРҫ РҫРҝСҸСӮСҢ СҒРөР» Р·Р° РёРіСҖСғ Рё РөСүРө РҝСҖРҫРёРіСҖал 12 000. РўРҫРіРҙР° СҒ РҪРөРіРҫ РҝРҫСӮСҖРөРұРҫвали РҙРІР° РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢСҒСӮРІР°; РҪРҫ РәРҫРіРҙР° РҫРҪ СҒРҪРҫРІР° РҫСӮРәазалСҒСҸ РІСӢРҙР°СӮСҢ РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢСҒСӮРІР°, РөРіРҫ РҝРҫСҒР°Рҙили РІ С…РҫР»РҫРҙРҪСғСҺ РІР°РҪРҪСғ, Рё РІРҫСӮ, СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ РёСҒСӮРөСҖР·Р°РҪРҪСӢР№ Рё РҫРұРөСҒСҒРёР»РөРІСҲРёР№ РҫСӮ РІРёРҪР°, РҫРҪ РҝРҫРҙРҝРёСҒал РҪР°РәРҫРҪРөСҶ СӮСҖРөРұСғРөРјСӢРө РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢСҒСӮРІР°. ЕгРҫ СғР»Рҫжили СҒРҝР°СӮСҢ, Р° РҪР°СғСӮСҖРҫ РҫРҪ СҒР»СғСҮРёРІСҲРөРөСҒСҸ СҒ РҪРёРј Р·Р°РұСӢР». Р—Р° РҪРёРј СҒСӮали СғхаживаСӮСҢ Рё РҝСҖРөРҙлагаСӮСҢ СҒРҪРҫРІР° РҝРҫРҝСҖРҫРұРҫРІР°СӮСҢ СҒСҮР°СҒСӮСҢСҸ. ЕмСғ Рҙали РІСӢРёРіСҖР°СӮСҢ 3 000, Р·Р°РҝлаСӮили РҪалиСҮРҪСӢРјРё, Р° СҒ РҪРөРіРҫ РІР·СҸли РҫРұСҸР·Р°СӮРөР»СҢСҒСӮРІРҫ РІ 29 000".
РқРҫРІРҫСҒРёР»СҢСҶРөРІР° РҝРөСҖРөРҙР°РөСӮ СҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№ СҒР»СғСҮай: СҖаз РәРҪСҸР·СҢ РЎРөСҖРіРөР№ Р“СҖРёРіРҫСҖСҢРөРІРёСҮ Р’РҫР»РәРҫРҪСҒРәРёР№ (РҙРөРәР°РұСҖРёСҒСӮ) РҝСҖиглаСҒРёР» РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РјРөСӮР°СӮСҢ РұР°РҪРә, РҪРҫ РӨ.Рҳ. СҒРәазал РөРјСғ: "Non, mon cher, je vous aime trop pour cela. Si nous jouions, je mРө laisserais entrainer par l'habitude de corriger la fortune". (РқРөСӮ, РјРҫР№ РјРёР»СӢР№, СҸ РІР°СҒ СҒлиСҲРәРҫРј Р»СҺРұР»СҺ РҙР»СҸ СҚСӮРҫРіРҫ. Р•СҒли РјСӢ РұСғРҙРөРј РёРіСҖР°СӮСҢ, СҸ СғРІР»РөРәСғСҒСҢ РҝСҖРёРІСӢСҮРәРҫР№ РёСҒРҝСҖавлСҸСӮСҢ РҫСҲРёРұРәРё С„РҫСҖСӮСғРҪСӢ.) Рҹ.РӨ. РҹРөСҖфилСҢРөРІР° СҚСӮРҫСӮ СҖР°СҒСҒРәаз РҪРө РҫРҝСҖРҫРІРөСҖгала.
Р–РёРІСҸ РҫСӮРәСҖСӢСӮРҫ Рё СҖРҫСҒРәРҫСҲРҪРҫ, РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ Р»СҺРұРёР» Р·Р°РҙаваСӮСҢ РҫРұРөРҙСӢ. Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ РҪазСӢРІР°РөСӮ РөРіРҫ "РҫРұР¶РҫСҖ, влаСҒСӮРёСӮРөР»СҢ, РҙСҖСғРі Рё РұРҫРі".
"РқРө Р·РҪР°СҺ, РөСҒСӮСҢ ли РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢР№ РіР°СҒСӮСҖРҫРҪРҫРј РІ ЕвСҖРҫРҝРө!" - РІРҫСҒРәлиСҶР°РөСӮ РҝСҖРҫ РҪРөРіРҫ Р‘СғлгаСҖРёРҪ. "РһРҪ РҪРө РҝСҖРөРҙлагал СҒРІРҫРёРј РіРҫСҒСӮСҸРј РұРҫР»СҢСҲРҫРіРҫ СҮРёСҒла РұР»СҺРҙ, РҪРҫ РәажРҙРҫРө РөРіРҫ РұР»СҺРҙРҫ РұСӢР»Рҫ РІРөСҖС… РҝРҫРІР°СҖРөРҪРҪРҫРіРҫ РёСҒРәСғСҒСҒСӮРІР°. РЎСӮРҫР»РҫРІСӢРө РҝСҖРёРҝР°СҒСӢ РҫРҪ РІСҒРөРіРҙР° Р·Р°РәСғРҝал СҒам. РқРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҖаз РҫРҪ РұСҖал РјРөРҪСҸ СҒ СҒРҫРұРҫСҺ, РҝСҖРё СҚСӮРҫРј РіРҫРІРҫСҖСҸ, СҮСӮРҫ РҝРөСҖРІСӢР№ РҝСҖРёР·РҪР°Рә РҫРұСҖазРҫРІР°РҪРҪРҫСҒСӮРё - РІСӢРұРҫСҖ РәСғС…РҫРҪРҪСӢС… РҝСҖРёРҝР°СҒРҫРІ Рё СҮСӮРҫ С…РҫСҖРҫСҲР°СҸ РҝРёСүР° РҫРұлагРҫСҖаживаРөСӮ живРҫСӮРҪСғСҺ РҫРұРҫР»РҫСҮРәСғ СҮРөР»РҫРІРөРәР°, РёР· РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РёСҒРҝР°СҖСҸРөСӮСҒСҸ СҖазСғРј. РқР°РҝСҖ., РҫРҪ РҝРҫРәСғРҝал СӮРҫР»СҢРәРҫ СӮСғ СҖСӢРұСғ РІ СҒР°РҙРәРө, РәРҫСӮРҫСҖР°СҸ СҒРёР»СҢРҪРҫ РұСҢРөСӮСҒСҸ, СӮ.Рө. РІ РәРҫСӮРҫСҖРҫР№ РұРҫР»СҢСҲРө жизРҪРё. Р”РҫСҒСӮРҫРёРҪСҒСӮРІРҫ РјСҸСҒР° РҫРҪ СғР·РҪавал РҝРҫ СҶРІРөСӮСғ, Рё СӮ.Рҙ.".
РҹРҫСҒРөливСҲРёСҒСҢ РІ РңРҫСҒРәРІРө, РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РҝРҫСҒСӮРҫСҸРҪРҪРҫ РІСҖР°СүалСҒСҸ РІ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪСӢС… РәСҖСғгах. РһРҪ РұСӢР» РІ РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҢСҒРәРёС… РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸС… СҒ РәРҪСҸР·РөРј Рҹ.Рҗ. Р’СҸР·РөРјСҒРәРёРј, СҒ Р‘РҫСҖР°СӮСӢРҪСҒРәРёРј, СҒ Р–СғРәРҫРІСҒРәРёРј *, Рҗ.РЎ. РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј, Р’Р°СҒ. Рӣ. РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј, РҗР»РөРәСҒРөРөРј РңихайлРҫРІРёСҮРөРј РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј, БаСӮСҺСҲРәРҫРІСӢРј *, РәРҪСҸР·РөРј ШалиРәРҫРІСӢРј, РәРҪСҸР·РөРј ШахРҫРІСҒРәРёРј, Рҳ.Рҳ. ДмиСӮСҖРёРөРІСӢРј, Р”РөРҪРёСҒРҫРј ДавСӢРҙРҫРІСӢРј Рё РҙСҖ. РЎР»РөРҙСӢ СҚСӮРёС… РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёР№ РјРҫР¶РҪРҫ РҪайСӮРё РІРҫ РјРҪРҫРіРёС… РјРөРјСғР°СҖах Рё РҝРёСҒСҢмах СӮРҫРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё.
* Р’. Р–СғРәРҫРІСҒРәРёР№. РЎРҫСҮ. 7-Рө РёР·Рҙ. Рў.6. РЎ.572.
** БаСӮСҺСҲРәРҫРІ. РЎРҫСҮ. Рў.3. РЎ.37.
РһСҒРҫРұРөРҪРҪРҫ РұлизРҫРә РұСӢР» РҫРҪ СҒ РәРҪСҸР·РөРј РҹРөСӮСҖРҫРј РҗРҪРҙСҖРөРөРІРёСҮРөРј Р’СҸР·РөРјСҒРәРёРј. Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ Рё РІ СҒСӮихах Рё РІ СҖР°СҒСҒРәазах РІСӢРәазал Рә РҪРөРјСғ РұРҫР»СҢСҲСғСҺ СҒРёРјРҝР°СӮРёСҺ. РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ, РҫРҪ РҝРёСҒал РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖСғ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮСғ РўСғСҖРіРөРҪРөРІСғ: "Р‘РҫР»РөРө РІСҒРөС… РІРёР¶Сғ Рё СҶРөРҪСҺ Р·РҙРөСҒСҢ РІРҫ РјРҪРҫРіРёС… РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёСҸС… РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СҮРөР»РҫРІРөРә РёРҪСӮРөСҖРөСҒРҪСӢР№ Рё Р»СҺРұРҫРҝСӢСӮРҪСӢР№". РЎРҫ СҒРІРҫРөР№ СҒСӮРҫСҖРҫРҪСӢ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҫСӮРҪРҫСҒРёР»СҒСҸ Рә Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРјСғ СҒ РҫСҒРҫРұСӢРј СғважРөРҪРёРөРј.
Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ РІ СҒРІРҫРөР№ "РЎСӮР°СҖРҫР№ Р·Р°РҝРёСҒРҪРҫР№ РәРҪРёР¶РәРө" РҫСӮРјРөСӮРёР» РјРҪРҫРіРҫ Р°РҪРөРәРҙРҫСӮРҫРІ РҝСҖРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ, Р° РІ РҝРёСҒСҢРјРө Рә РўСғСҖРіРөРҪРөРІСғ 19 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1818 РіРҫРҙР° РҙР°РөСӮ РөРјСғ СҒР»РөРҙСғСҺСүСғСҺ РјРөСӮРәСғСҺ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәСғ.
РҗРјРөСҖРёРәР°РҪРөСҶ Рё СҶСӢРіР°РҪ,
РқР° СҒРІРөСӮРө РҪСҖавСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј загаРҙРәР°,
РҡРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РәР°Рә лихРҫСҖР°РҙРәР°
РңСҸСӮРөР¶РҪСӢС… СҒРәР»РҫРҪРҪРҫСҒСӮРөР№ РҙСғСҖРјР°РҪ
Рҳли СҒСӮСҖР°СҒСӮРөР№ РәРёРҝСҸСүРёС… СҒС…РІР°СӮРәР°
Р’СҒРөРіРҙР° РёР· РәСҖР°СҸ РјРөСҮРөСӮ РІ РәСҖай,
РҳР· СҖР°СҸ РІ Р°Рҙ, РёР· Р°РҙР° РІ СҖай,
РҡРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РҙСғСҲР° РөСҒСӮСҢ РҝламРөРҪСҢ,
Рҗ СғРј - С…РҫР»РҫРҙРҪСӢР№ СҚРіРҫРёСҒСӮ,
РҹРҫРҙ РұСғСҖРөР№ СҖРҫРәР° - СӮРІРөСҖРҙСӢР№ РәамРөРҪСҢ,
Р’ РІРҫР»РҪРөРҪСҢРё СҒСӮСҖР°СҒСӮРё - Р»РөРіРәРёР№ лиСҒСӮ *.
* Р—РҙРөСҒСҢ Рё РҙалРөРө РІ РҝСҖРёРІРөРҙРөРҪРҪСӢС… авСӮРҫСҖРҫРј СҶРёСӮР°СӮах РҫРұРҪР°СҖСғР¶РөРҪСӢ РјРҪРҫРіРҫСҮРёСҒР»РөРҪРҪСӢРө РҪРөСӮРҫСҮРҪРҫСҒСӮРё. - Р РөРҙ.
РўР°РәР°СҸ С…Р°СҖР°РәСӮРөСҖРёСҒСӮРёРәР°, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РҙРҫлжРҪР° РұСӢла Р»СҢСҒСӮРёСӮСҢ РўРҫР»СҒСӮРҫРјСғ, РҪРҫ РҫРҪ РіРҫРІРҫСҖРёР» Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРјСғ, СҮСӮРҫ СҒСҮРёСӮР°РөСӮ РөРіРҫ РҪРө СҒСӮРҫР»СҢРәРҫ tolerant (СӮРөСҖРҝРёРјСӢРј, СҒРҪРёСҒС…РҫРҙРёСӮРөР»СҢРҪСӢРј), СҒРәРҫР»СҢРәРҫ Talleyrand (ТалРөР№СҖР°РҪРҫРј, СӮРҫ РөСҒСӮСҢ С…РёСӮСҖСӢРј РҙРёРҝР»РҫРјР°СӮРҫРј).
Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ РІ СҒРІРҫРёС… РҝРёСҒСҢмах РҪРө СҖаз СғРҝРҫРјРёРҪР°РөСӮ Рҫ РўРҫР»СҒСӮРҫРј. РўР°Рә, РҪР°РҝСҖРёРјРөСҖ, 13 РҙРөРәР°РұСҖСҸ 1825 РіРҫРҙР° РҫРҪ РҝРёСҲРөСӮ Рҗ.Рҳ. РўСғСҖРіРөРҪРөРІСғ: "Р’СҮРөСҖР° РұСӢли Сғ РҪР°СҒ РІ РһСҒСӮафСҢРөРІРө Р–РёС…Р°СҖРөРІ, РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Рё Р”РөРҪРёСҒ ДавСӢРҙРҫРІ. РҹРҫСҒР»РөРҙРҪРёРө РҙРІР° СҒРјРөСҲили РҪР°СҒ".
РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Рё Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ РҫРұР° РұСӢли "РҝСҖРҫРұРҫСҮРҪРёРәами", РәавалРөСҖами СҲСғСӮРҫСҮРҪРҫРіРҫ "РҫСҖРҙРөРҪР° РҝСҖРҫРұРәРё". Рҡ СҮРёСҒР»Сғ РҝСҖРҫРұРҫСҮРҪРёРәРҫРІ РҝСҖРёРҪР°РҙР»Рөжали СӮР°РәР¶Рө Р”РөРҪРёСҒ ДавСӢРҙРҫРІ (РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢР№ РҝР°СҖСӮРёР·Р°РҪ 12-РіРҫ РіРҫРҙР°), Р’Р°СҒилий РӣСҢРІРҫРІРёСҮ РҹСғСҲРәРёРҪ (РҙСҸРҙСҸ РҝРҫСҚСӮР°), БаСӮСҺСҲРәРҫРІ Рё РҙСҖСғРіРёРө.
РЎР»РөРҙСғСҺСүР°СҸ РҝРөСҒРҪСҸ РҝСҖРҫРұРҫСҮРҪРёРәРҫРІ, СҒРҫСҮРёРҪРөРҪРҪР°СҸ, РІРөСҖРҫСҸСӮРҪРҫ, Р‘СғРҪРёРҪСӢРј, РҝРөлаСҒСҢ РҪР° РёС… СҒРҫРұСҖР°РҪРёСҸС…:
РҹРҫРәР»РҫРҪРёСҒСҢ СҒРҫСҒРөРҙ СҒРҫСҒРөРҙСғ,
РЎРҫСҒРөРҙ Р»СҺРұРёСӮ РҝРёСӮСҢ РІРёРҪРҫ.
РһРұРҫР№РјРё СҒРҫСҒРөРҙ СҒРҫСҒРөРҙР°,
РЎРҫСҒРөРҙ Р»СҺРұРёСӮ РҝРёСӮСҢ РІРёРҪРҫ.
РҹРҫСҶРөР»СғР№ СҒРҫСҒРөРҙ СҒРҫСҒРөРҙР°,
РЎРҫСҒРөРҙ Р»СҺРұРёСӮ РҝРёСӮСҢ РІРёРҪРҫ.
Р’РөСҒРөР»СӢР№ СҲСғРј, РҝРөРҪСҢРө Рё СҒРјРөС…Рё,
РһРұРјРөРҪ РұСғСӮСӢР»РҫРә Рё СҖРөСҮРөР№,
РўР°Рә РҝСҖазРҙРҪСғРөСӮ СҒРІРҫРё РҝРҫСӮРөС…Рё
РЎРөРјСҢСҸ РҝРёСҖСғСҺСүРёС… РҙСҖСғР·РөР№.
Р’СҒРө РёСҒРәСҖРёСӮСҒСҸ - РІРёРҪРҫ Рё СҲСғСӮРәРё!
Глаза РіРҫСҖСҸСӮ, СҒРІРөСӮР»РөРөСӮ Р»РҫРұ,
Рҳ Р·Р°СҮР°СҒСӮСғСҺ РІ РҝСҖРҫРјРөР¶СғСӮРәРө
Р—Р° РҝСҖРҫРұРәРҫР№ РҝСҖРҫРұРәР° С…Р»РҫРҝ РҙР° С…Р»РҫРҝ!
РқР°СҒ РҙСҖСғР¶РұР° РІСҒРөС… СғСҒСӢРҪРҫвила,
РңСӢ РІСҒРө СҒРІРҫРё, РјСӢ РІСҒРө СҖРҫРҙРҪСҸ,
РӣСғСҮРё РјСӢ РҫРҙРҪРҫРіРҫ СҒРІРөСӮила,
РңСӢ РёСҒРәСҖСӢ РҫРҙРҪРҫРіРҫ РҫРіРҪСҸ.
Рҗ РҙРҪРё Р»РөСӮСҸСӮ Рё РұРөР· РІРҫР·РІСҖР°СӮР°!
РҡР°Рә Р·РҪР°СӮСҢ? Р‘СӢСӮСҢ РјРҫР¶РөСӮ, РұлизРҫРә СҮР°СҒ,
РҡРҫРіРҙР° СӮРҫРіРҫ Р»СҢ, РҙСҖСғРіРҫРіРҫ Р»СҢ РұСҖР°СӮР°
РқРө РҙРҫСҒСҮРёСӮР°РөРјСҒСҸ СҒСҖРөРҙСҢ РҪР°СҒ *.
* РҳСҒСӮРҫСҖРёСҮРөСҒРәРёР№ РІРөСҒСӮРҪРёРә. 1903. РҗРҝСҖ. РЎ.210-211.
Р’ РҫРҙРҪРҫР№ Р·Р°СҒСӮРҫР»СҢРҪРҫР№ РҝРөСҒРҪРө РәавалРөСҖСӢ РҝСҖРҫРұРәРё СӮР°Рә РІРөлиСҮали РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ:
Рҗ РІРҫСӮ Рё РҪР°СҲ РҗРјРөСҖРёРәР°РҪРөСҶ!
Р’ РҙРөРҪСҢ СҒлавРҪСӢР№ РҝРҫРҙ Р‘РҫСҖРҫРҙРёРҪСӢРј
РўСӢ С…СҖР°РұСҖРҫ РҪРөСҒ СҒРҫР»РҙР°СӮСҒРәРёР№ СҖР°РҪРөСҶ
Рҳ СүРөРіРҫР»СҸР» СҲСӮСӢРәРҫРј СҒРІРҫРёРј.
РқР° РҝамСҸСӮСҢ РҙРҪСҸ СӮРҫРіРҫ Р“РөРҫСҖРіРёР№
РЈРәСҖР°СҒРёР» РұРҫРөРІСғСҺ РіСҖСғРҙСҢ.
РЎСҖРөРҙСҢ РҪР°СҲРёС… РјРёСҖРҪСӢС… РұСҖР°СӮСҒРәРёС… РҫСҖРіРёР№
Р’СӮРҫСҖСӢРј СӮСӢ РҝРҫ Р”РөРҪРёСҒРө РұСғРҙСҢ! *
* Там Р¶Рө.
РҡСӮРҫ РөСүРө, РәСҖРҫРјРө СғРҝРҫРјСҸРҪСғСӮСӢС… лиСҶ, РұСӢли РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҸРјРё РӨ.Рҳ. , РІРёРҙРҪРҫ РёС… РҙРІСғС… СҒСӮРёС…РҫСӮРІРҫСҖРөРҪРёР№ Р’Р°СҒилиСҸ РӣСҢРІРҫРІРёСҮР° РҹСғСҲРәРёРҪР° *. Р’ РҝРөСҖРІРҫРј СҒСӮРёС…РҫСӮРІРҫСҖРөРҪРёРё Р’Р°СҒилий РӣСҢРІРҫРІРёСҮ СҒ СҒРҫжалРөРҪРёРөРј РҫСӮРәазСӢРІР°РөСӮСҒСҸ РҫРұРөРҙР°СӮСҢ Сғ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ:
Р§СӮРҫ РҙРөлаСӮСҢ, РјРёР»СӢР№ РјРҫР№ РўРҫР»СҒСӮРҫР№,
РһРұРөРҙР°СӮСҢ Сғ СӮРөРұСҸ РҪРёРәР°Рә РјРҪРө РҪРө РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫ.
РЎСӮСҖР°РҙР°СӮСҢ РҝРҫРҙагСҖРҫСҺ РјРҪРө РІРөР»РөРҪРҫ СҒСғРҙСҢРұРҫР№,
Рҗ СҒ РҪРөСҺ СҖазСҠРөзжаСӮСҢ СҒРҫРІСҒРөРј РҪРөРҫСҒСӮРҫСҖРҫР¶РҪРҫ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
РЎСғСҖРҫРІСӢР№ РІРёРҙ РІСҖР°СҮР°, СҒРҫРІРөСӮ РөРіРҫ РҝРҫР»РөР·РҪСӢР№,
РҹРҫРҙагСҖР° РұРҫР»РөРө РІСҒРөРіРҫ,
Р’РөР»СҸСӮ РјРҪРө РҙРҫРјР° РұСӢСӮСҢ. РўСӢ РҪРө СҒРөСҖРҙРёСҒСҢ, Р»СҺРұРөР·РҪСӢР№!
РҜ РҝлаСҮСғ, СҮСӮРҫ лиСҲРөРҪ РҫРұРөРҙР° СӮРІРҫРөРіРҫ.
РҹРҫСҮСӮРөРҪРҪСӢР№ РӣафРҫРҪСӮРөРҪ, РҪР°СҲ РҫРұСҖазРөСҶ, СғСҮРёСӮРөР»СҢ,
РӣСҺРұРөР·РҪСӢР№ Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№, РҙРҫСҒСӮРҫР№РҪСӢР№ РӨРөРұР° СҒСӢРҪ,
Рҳ РҹСғСҲРәРёРҪ, РұалагСғСҖ, СҒСӮРёС…РҫРІ РјРҫРёС… С…СғлиСӮРөР»СҢ,
РҡРҫСӮРҫСҖРҫРјСғ Р’РҫР»СҢСӮРөСҖ лиСҲСҢ РҪСҖавиСӮСҒСҸ РҫРҙРёРҪ,
Рҳ РҝРҫла Р¶РөРҪСҒРәРҫРіРҫ СғСҒРөСҖРҙРҪСӢР№ РҝРҫСҮРёСӮР°СӮРөР»СҢ,
РҹСҖРёСҸСӮРҪСӢР№ Рё РІ СҒСӮихах Рё РІ РҝСҖРҫР·Рө РҪР°СҲ РҝРёСҒР°СӮРөР»СҢ,
РҡРҪСҸР·СҢ ШалиРәРҫРІ - СҒ СӮРҫРұРҫР№ РІСҒРө РұСғРҙСғСӮ РҝРёСҖРҫРІР°СӮСҢ.
РҡР°Рә РјРҪРө РҪРө РіРҫСҖРөРІР°СӮСҢ?
1816. РңРҫСҒРәРІР°
РҹРҫСҮСӮРөРҪРҪСӢР№ РӣафРҫРҪСӮРөРҪ - СҚСӮРҫ Рҳ.Рҳ. ДмиСӮСҖРёРөРІ, РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢР№ РұР°СҒРҪРҫРҝРёСҒРөСҶ; Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ - РәРҪСҸР·СҢ РҹРөСӮСҖ РҗРҪРҙСҖРөРөРІРёСҮ - РҝРҫСҚСӮ, РҙСҖСғРі РҹСғСҲРәРёРҪР°; РҗР»РөРәСҒРөР№ РңихайлРҫРІРёСҮ РҹСғСҲРәРёРҪ - авСӮРҫСҖ СҲСғСӮРҫСҮРҪСӢС… СҒСӮРёС…РҫРІ, РҝРөСҖРөРІРҫРҙСҮРёРә Р’РҫР»СҢСӮРөСҖР°; РҡРҪ. ШалиРәРҫРІ - РҝРҫСҚСӮ, РёР·РҙР°СӮРөР»СҢ "ДамСҒРәРҫРіРҫ Р¶СғСҖРҪала".
* РҹСғСҲРәРёРҪ Р’.Рӣ. РЎРҫСҮ. РҹСҖРёР». Рә Р¶СғСҖРҪ. "РЎРөРІРөСҖ". 1893. РһРәСӮ.
Р’ СҒСӮРёС…РҫСӮРІРҫСҖРөРҪРёРё "РһСӮРІРөСӮ РёРјРөРҪРёРҪРҪРёРәР° РҪР° РҝРҫР·РҙСҖавлРөРҪРёРө РҙСҖСғР·РөР№" Р’.Рӣ. РҹСғСҲРәРёРҪ, жалСғСҸСҒСҢ РҪР° РҝРҫРҙагСҖСғ Рё СҒСӮР°СҖРҫСҒСӮСҢ, РҝРёСҲРөСӮ:
Р“СҖаф РўРҫР»СҒСӮРҫР№ Рё РәРҪСҸР·СҢ ГагаСҖРёРҪ,
РқР°СҲ РҫСҒСӮафСҢРөРІСҒРәРёР№ РұРҫСҸСҖРёРҪ,
Р Р¶РөРІСҒРәРёР№, БаСӮСҺСҲРәРҫРІ - РҹР°СҖРҪРё, -
РазСҶРІРөСӮР°СҺСӮ РІР°СҲРё РҙРҪРё.
Вам РІСҒРө СҲСғСӮРәРё, РјРҪРө Р¶Рө РіРҫСҖРө,
Рҳ РјРҫСҸ РҝРҫРҙагСҖР° РІСҒРәРҫСҖРө
РЈСҲРёРұРөСӮ РјРөРҪСҸ, РҙСҖСғР·СҢСҸ,
ЖалРәРёР№ РёРјРөРҪРёРҪРҪРёРә СҸ.
РЎРөСҖРіРөР№ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ ГагаСҖРёРҪ, Р¶РөРҪР°СӮСӢР№ РҪР° СҒРөСҒСӮСҖРө РҗР»РөРәСҒРөСҸ РңихайлРҫРІРёСҮР° РҹСғСҲРәРёРҪР°, РІРҝРҫСҒР»РөРҙСҒСӮРІРёРё СҮР»РөРҪ Р“РҫСҒСғРҙР°СҖСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ РЎРҫРІРөСӮР°, РұСӢР» РёР·РІРөСҒСӮРөРҪ РәР°Рә агСҖРҫРҪРҫРј, РҹавРөР» РҗР»РөРәСҒРөРөРІРёСҮ Р Р¶РөРІСҒРәРёР№ РұСӢР» СҒСӢРҪРҫРј РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫРіРҫ РјР°СҒРҫРҪР° Рё РҝРёСҒР°СӮРөР»СҸ Рҗ.Рҗ. Р Р¶РөРІСҒРәРҫРіРҫ. РһСҒСӮафСҢРөРІСҒРәРёР№ РұРҫСҸСҖРёРҪ - СҚСӮРҫ РәРҪСҸР·СҢ Рҹ.Рҗ. Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№, БаСӮСҺСҲРәРҫРІ - РҝРҫСҚСӮ.
Р’ РҝРёСҒСҢмах Р–СғРәРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РӨРөРҙРҫСҖ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СғРҝРҫРјРёРҪР°РөСӮСҒСҸ РҪРө СҖаз. РқР°РҝСҖРёРјРөСҖ 17 Р°РҝСҖРөР»СҸ 1818 РіРҫРҙР° Р–СғРәРҫРІСҒРәРёР№ РҝРёСҒал Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРјСғ:
"РҹРҫСҒСӢлаСҺ СӮРөРұРө РҝРёСҒСҢРјРҫ РҫСӮ РңРөСүРөРІСҒРәРҫРіРҫ (РңРөСүРөРІСҒРәРёР№ РұСӢР» СҒРҫСҒлаРҪРҪСӢР№ РІ РЎРёРұРёСҖСҢ СҒСӮРёС…РҫСӮРІРҫСҖРөСҶ). РһРҪ РҝСҖРёСҒлал РјРҪРө В«РңР°СҖСҢРёРҪСғ Р РҫСүСғВ» РІ СҒСӮихах, Рё СҸ РөРө РҝСҖРҫРҙал Р·Р° 300 СҖ. РҹСҖРёСҒСӢлай Рё СӮСӢ СҮСӮРҫ-РҪРёРұСғРҙСҢ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҫРұРөСүал СӮР°РәР¶Рө РҝРҫРјРҫРіР°СӮСҢ РөРјСғ" *.
* Р–СғРәРҫРІСҒРәРёР№ Р’. РЎРҫСҮ. 10-Рө РёР·Рҙ. Рў.6. РЎ.572.
РҳР· СҚСӮРҫРіРҫ РІРёРҙРҪРҫ, СҮСӮРҫ РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ РұСӢвал СүРөРҙСҖ, СҮСӮРҫ, РІРҝСҖРҫСҮРөРј, СҒРІРҫР№СҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РәСҖСғРҝРҪСӢРј РёРіСҖРҫРәам.
Р’ 1821 РіРҫРҙСғ РӨ.Рҳ. Р¶РөРҪРёР»СҒСҸ. РҹСҖРҫРёР·РҫСҲР»Рҫ СҚСӮРҫ СӮР°Рә. Р’ РәСғСӮРөжах СӮРҫР№ СҚРҝРҫС…Рё РұРҫР»СҢСҲСғСҺ СҖРҫР»СҢ РёРіСҖали СҶСӢРіР°РҪРө. РўРҫРіРҙР° СҶСӢРіР°РҪРө РөСүРө РҪРө РҝРөли РІ СҖРөСҒСӮРҫСҖР°РҪах, РІСҖРҫРҙРө РҜСҖР° Рё РЎСӮСҖРөР»СҢРҪСӢ. Р—Р°РәСғСӮРёРІСҲРёРө РіРҫСҒРҝРҫРҙР° или РҝСҖиглаСҲали РёС… Рә СҒРөРұРө или СҒами РөР·Рҙили Рә РҪРёРј РІ СӮР°РұРҫСҖСӢ, РіРҙРө РёРҪРҫРіРҙР° РҝСҖРҫРІРҫРҙили РҝРҫ РҪРөСҒРәРҫР»СҢРәРҫ РҙРҪРөР№. Р’Рҫ РІСҖРөРјСҸ СҒРІРҫРёС… РәСғСӮРөР¶РөР№ СҒ СҶСӢРіР°РҪами РӨ.Рҳ. СғРІР»РөРәСҒСҸ РҫРҙРҪРҫР№ СҶСӢРіР°РҪРәРҫР№ - РҝСҖРөР»РөСҒСӮРҪРҫР№ РҝРөРІРёСҶРөР№ РҝРҫ РҫСӮР·СӢРІСғ РөРө СҒРҫРІСҖРөРјРөРҪРҪРёРәРҫРІ - РҗРІРҙРҫСӮСҢРөР№ РңР°РәСҒРёРјРҫРІРҪРҫР№ РўСғРіР°РөРІРҫР№, СғРІР»РөРә РөРө Рё СғРІРөР· Рә СҒРөРұРө.
РҡамРөРҪСҒРәР°СҸ СҖР°СҒСҒРәазСӢРІР°РөСӮ, СҮСӮРҫ РҫРҪ
"РҙРҫлгРҫ жил СҒ РҪРөСҺ РұРөР· РІРөРҪСҮР°РҪРёСҸ. Раз, РҝСҖРҫРёРіСҖав РұРҫР»СҢСҲСғСҺ СҒСғРјРјСғ РІ РҗРҪглийСҒРәРҫРј РәР»СғРұРө, РҫРҪ РҙРҫлжРөРҪ РұСӢР» РұСӢСӮСҢ РІСӢСҒСӮавлРөРҪ РҪР° СҮРөСҖРҪСғСҺ РҙРҫСҒРәСғ Р·Р° РҪРөРҝлаСӮРөР¶ РҝСҖРҫРёРіСҖСӢСҲР° РІ СҒСҖРҫРә. РһРҪ РҪРө С…РҫСӮРөР» РҝРөСҖРөжиСӮСҢ СҚСӮРҫРіРҫ РҝРҫР·РҫСҖР° Рё СҖРөСҲРёР» Р·Р°СҒСӮСҖРөлиСӮСҢСҒСҸ. ЕгРҫ СҶСӢРіР°РҪРәР°, РІРёРҙСҸ РөРіРҫ РІРҫР·РұСғР¶РҙРөРҪРҪРҫРө СҒРҫСҒСӮРҫСҸРҪРёРө, СҒСӮала РөРіРҫ РІСӢСҒРҝСҖР°СҲРёРІР°СӮСҢ.
- Р§СӮРҫ СӮСӢ Р»РөР·РөСҲСҢ РәРҫ РјРҪРө, - РіРҫРІРҫСҖРёР» РӨ.Рҳ., - СҮРөРј СӮСӢ РјРҪРө РјРҫР¶РөСҲСҢ РҝРҫРјРҫСҮСҢ? Р’СӢСҒСӮавСҸСӮ РјРөРҪСҸ РҪР° СҮРөСҖРҪСғСҺ РҙРҫСҒРәСғ, Рё СҸ СҚСӮРҫРіРҫ РҪРө РҝРөСҖРөживСғ. РЈРұРёСҖайСҒСҸ.
РҗРІРҙРҫСӮСҢСҸ РңР°РәСҒРёРјРҫРІРҪР° РҪРө РҫСӮСҒСӮала РҫСӮ РҪРөРіРҫ, СғР·РҪала, СҒРәРҫР»СҢРәРҫ РөРјСғ РҪСғР¶РҪРҫ РұСӢР»Рҫ РҙРөРҪРөРі, Рё РҪР° РҙСҖСғРіРҫРө СғСӮСҖРҫ РҝСҖРёРІРөзла РөРјСғ РҝРҫСӮСҖРөРұРҪСғСҺ СҒСғРјРјСғ.
- РһСӮРәСғРҙР° Сғ СӮРөРұСҸ РҙРөРҪСҢРіРё? - СғРҙРёРІРёР»СҒСҸ РӨРөРҙРҫСҖ РҳРІР°РҪРҫРІРёСҮ.
- РһСӮ СӮРөРұСҸ Р¶Рө. РңалРҫ СӮСӢ РјРҪРө РҙР°СҖРёР». РҜ РІСҒРө РҝСҖСҸСӮала. РўРөРҝРөСҖСҢ РІРҫР·СҢРјРё РёС…, РҫРҪРё - СӮРІРҫРё.
РӨ.Рҳ. СҖР°СҒСҮСғРІСҒСӮРІРҫвалСҒСҸ Рё РҫРұРІРөРҪСҮалСҒСҸ РҪР° СҒРІРҫРөР№ СҶСӢРіР°РҪРәРө ".
Р’РөРҪСҮР°РҪРёРө РҝСҖРҫРёР·РҫСҲР»Рҫ 10 СҸРҪРІР°СҖСҸ 1821 РіРҫРҙР°. Р’ СӮРҫРј Р¶Рө 1821 РіРҫРҙСғ Сғ РҪРөРіРҫ СҖРҫРҙилаСҒСҢ РҙРҫСҮСҢ РЎР°СҖСҖР°. Р РҫР¶РҙРөРҪРёРө РҙРҫСҮРөСҖРё или РҫжиРҙР°РҪРёРө РөРө СҖРҫР¶РҙРөРҪРёСҸ РјРҫгли СӮР°РәР¶Рө РҝРҫРұСғРҙРёСӮСҢ РөРіРҫ СғРҝРҫСҖСҸРҙРҫСҮРёСӮСҢ СҒРІРҫРө СҒРөРјРөР№РҪРҫРө РҝРҫР»РҫР¶РөРҪРёРө.
РӣРөРІ РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РҪРө СҖаз РұСӢвавСҲРёР№ Сғ РҗРІРҙРҫСӮСҢРё РңР°РәСҒРёРјРҫРІРҪСӢ РІ 40-С… Рё 50-С… РіРҫРҙах, РәРҫРіРҙР° РҫРҪР° РұСӢла СғР¶Рө РІРҙРҫРІРҫСҺ, Рё С…РҫСҖРҫСҲРҫ Р·РҪавСҲРёР№ РҙРҫСҮСҢ РӨ.Рҳ. РҹСҖР°СҒРәРҫРІСҢСҺ РӨРөРҙРҫСҖРҫРІРҪСғ, СҖР°СҒСҒРәазСӢвал, СҮСӮРҫ, РҫРұРІРөРҪСҮавСҲРёСҒСҢ, РӨ.Рҳ. РҝРҫРөхал РІРјРөСҒСӮРө СҒРҫ СҒРІРҫРөР№ РјРҫР»РҫРҙРҫР№ Р¶РөРҪРҫР№ СҒ РІРёР·РёСӮами РІРҫ РІСҒРө Р·РҪР°РәРҫРјСӢРө РөРјСғ РҙРҫРјР°. Р’ РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… СҮРІР°РҪРҪСӢС… СҒРөРјСҢСҸС…, РіРҙРө СҖР°РҪСҢСҲРө, РҪРөСҒРјРҫСӮСҖСҸ РҪР° РөРіРҫ РҝРҫСҖРҫСҮРҪСғСҺ жизРҪСҢ, РөРіРҫ С…РҫР»РҫСҒСӮРҫРіРҫ РҫС…РҫСӮРҪРҫ РҝСҖРёРҪимали, СӮРөРҝРөСҖСҢ, РәРҫРіРҙР° РҫРҪ РҝСҖРёРөхал СҒ Р¶РөРҪРҫР№-СҶСӢРіР°РҪРәРҫР№, РөРіРҫ РҪРө РҝСҖРёРҪСҸли. РўРҫРіРҙР° РҫРҪ, РәР°Рә СҮРөР»РҫРІРөРә СҒамРҫР»СҺРұРёРІСӢР№ Рё СҒ СҮСғРІСҒСӮРІРҫРј СҒРҫРұСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРіРҫ РҙРҫСҒСӮРҫРёРҪСҒСӮРІР°, РҪРёРәРҫРіРҙР° РұРҫР»СҢСҲРө Рә СҚСӮРёРј Р·РҪР°РәРҫРјСӢРј РҪРө РөР·РҙРёР».
РҗРІРҙРҫСӮСҢСҸ РңР°РәСҒРёРјРҫРІРҪР° РҫРәазалаСҒСҢ Р¶РөРҪСүРёРҪРҫР№ СҚРҪРөСҖРіРёСҮРҪРҫР№ Рё РҝСҖРөРҙР°РҪРҪРҫР№ СҒРІРҫРөРјСғ РјСғР¶Сғ. РһСҮРөРІРёРҙРҪРҫ, СӮРҫР»СҢРәРҫ СӮР°РәР°СҸ Р¶РөРҪР° РјРҫгла СҒ РҪРёРј СғжиСӮСҢСҒСҸ; РөРҙРІР° ли Р¶РөРҪСүРёРҪР° РөРіРҫ Р¶Рө РәСҖСғРіР° РјРҫгла РұСӢ РІСӢРҪРөСҒСӮРё РөРіРҫ РәСҖСғСӮРҫР№ Рё СҒРІРҫРөРІРҫР»СҢРҪСӢР№ РҪСҖав.
Р“РӣРҗР’Рҗ V
РЎСҒРҫСҖР° Рё РҝСҖРёРјРёСҖРөРҪРёРө СҒ РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј.
РЎРҫглаСҒРҪРҫ РёСҒСҒР»РөРҙРҫРІР°РҪРёСҸРј РӣРөСҖРҪРөСҖР°, РҝРөСҖРІРҫРҪР°СҮалСҢРҪСӢРј РҝРҫРІРҫРҙРҫРј Рә СҒСҒРҫСҖРө РӨРөРҙРҫСҖР° РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ СҒ Рҗ.РЎ. РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј РҝРҫСҒР»СғжилРҫ РҫРҙРҪРҫ РҝРёСҒСҢРјРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ Рә РөРіРҫ СӮРҫРІР°СҖРёСүСғ РҝРҫ РҹСҖРөРҫРұСҖажРөРҪСҒРәРҫРјСғ РҝРҫР»РәСғ РәРҪСҸР·СҺ Рҗ.Рҗ. ШахРҫРІСҒРәРҫРјСғ (авСӮРҫСҖСғ РёР·РІРөСҒСӮРҪСӢС… РІ СҒРІРҫРө РІСҖРөРјСҸ РәРҫРјРөРҙРёР№). Р’ СҚСӮРҫРј РҝРёСҒСҢРјРө РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҪР°РҝРёСҒал РҪРөСҮСӮРҫ РҫРұРёРҙРҪРҫРө РҙР»СҸ РҹСғСҲРәРёРҪР°, Р° ШахРҫРІСҒРәРҫР№ РҪРө РҝРҫСҒСӮРөСҒРҪРёР»СҒСҸ РҝРҫРәазСӢРІР°СӮСҢ СҚСӮРҫ РҝРёСҒСҢРјРҫ РҫРұСүРёРј Р·РҪР°РәРҫРјСӢРј. Р§СӮРҫ РёРјРөРҪРҪРҫ РҪР°РҝРёСҒал РўРҫР»СҒСӮРҫР№, РҫСҒСӮР°РөСӮСҒСҸ, Рә СҒРҫжалРөРҪРёСҺ, РҪРөРёР·РІРөСҒСӮРҪСӢРј. РҹСғСҲРәРёРҪ, СғРөзжаСҸ РҪР° СҺРі, РІ СҒСҒСӢР»РәСғ, РҪРө Р·РҪал РҫРұ СҚСӮРҫРј РҝРёСҒСҢРјРө Рё СҖР°СҒСҒСӮалСҒСҸ СҒ РўРҫР»СҒСӮСӢРј РҝРҫ-РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҢСҒРәРё. РһРұРёРҙРҪСӢР№ РҫСӮР·СӢРІ РҙРҫСҲРөР» РҙРҫ РҪРөРіРҫ СғР¶Рө РІ СҒСҒСӢР»РәРө. РўРҫРіРҙР° РҫРҪ РҪР°РҝРёСҒал СҒР»РөРҙСғСҺСүСғСҺ СҚРҝРёРіСҖаммСғ РҪР° РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ (РҫСӮРҪРҫСҒРёРјСғСҺ РёСҒСӮРҫСҖРёРәами лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ Рә 1820 РіРҫРҙСғ):
Р’ жизРҪРё РјСҖР°СҮРҪРҫР№ Рё РҝСҖРөР·СҖРөРҪРҪРҫР№
Р‘СӢР» РҫРҪ РҙРҫлгРҫ РҝРҫРіСҖСғР¶РөРҪ,
Р”РҫлгРҫ РІСҒРө РәРҫРҪСҶСӢ РІСҒРөР»РөРҪРҪРҫР№
РһСҒРәРІРөСҖРҪСҸР» СҖазвСҖР°СӮРҫРј РҫРҪ.
РқРҫ, РёСҒРҝСҖавСҸСҒСҢ РҝРҫРҪРөРјРҪРҫРіСғ,
РһРҪ заглаРҙРёР» СҒРІРҫР№ РҝРҫР·РҫСҖ,
Рҳ СӮРөРҝРөСҖСҢ РҫРҪ, - СҒлава Р‘РҫРіСғ -
РўРҫР»СҢРәРҫ СҮСӮРҫ РәР°СҖСӮРөР¶РҪСӢР№ РІРҫСҖ.
РӯСӮР° СҚРҝРёРіСҖамма РІ СӮРҫ РІСҖРөРјСҸ РҪР°РҝРөСҮР°СӮР°РҪР° РҪРө РұСӢла, РҪРҫ, РәРҫРҪРөСҮРҪРҫ, РұСӢла СҒРҫРҫРұСүРөРҪР° РўРҫР»СҒСӮРҫРјСғ. РҹСғСҲРәРёРҪ, РҫРҙРҪР°РәРҫ, СҚСӮРёРј РҪРө СғРҙРҫРІРҫР»СҢСҒСӮРІРҫвалСҒСҸ.
"РҹСғСҲРәРёРҪ, - РҝРёСҲРөСӮ Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№, - РІ жизРҪРё РөР¶РөРҙРҪРөРІРҪРҫР№, РІ СҒРҪРҫСҲРөРҪРёСҸС… жиСӮРөР№СҒРәРёС… РұСӢР» РҪРөРҝРҫРјРөСҖРҪРҫ РҙРҫРұСҖРҫСҒРөСҖРҙРөСҮРөРҪ Рё РҝСҖРҫСҒСӮРҫСҒРөСҖРҙРөСҮРөРҪ, РҪРҫ РҝСҖРё РҪРөРәРҫСӮРҫСҖСӢС… РҫРұСҒСӮРҫСҸСӮРөР»СҢСҒСӮвах РұСӢвал РҫРҪ Р·Р»РҫРҝамСҸСӮРөРҪ РҪРө СӮРҫР»СҢРәРҫ РІ РҫСӮРҪРҫСҲРөРҪРёРё Рә РҪРөРҙРҫРұСҖРҫР¶РөлаСӮРөР»СҸРј, РҪРҫ Рё Рә РҝРҫСҒСӮРҫСҖРҫРҪРҪРёРј Рё РҙажРө РҝСҖРёСҸСӮРөР»СҸРј СҒРІРҫРёРј. РһРҪ, СӮР°Рә СҒРәазаСӮСҢ, СҒСӮСҖРҫРіРҫ РҙРөСҖжал РІ РҝамСҸСӮРё СҒРІРҫРөР№ РұСғхгалСӮРөСҖСҒРәСғСҺ РәРҪРёРіСғ, РІ РәРҫСӮРҫСҖСғСҺ РІРҪРҫСҒРёР» СҶР°СҖР°РҝРёРҪСӢ, РҪР°РҪРөСҒРөРҪРҪСӢРө РөРјСғ СҒ СғРјСӢСҒР»РҫРј, Р° РјР°СӮРөСҖиалСҢРҪРҫ Р·Р°РҝРёСҒСӢвал РёРјРөРҪР° СҒРІРҫРёС… РҙРҫлжРҪРёРәРҫРІ РҪР° Р»РҫСҒРәСғСӮРәах РұСғмаги, РәРҫСӮРҫСҖСӢРө СҸ СҒам РІРёРҙРөР» Сғ РҪРөРіРҫ. РӯСӮРҫ РөРіРҫ СӮРөСҲРёР»Рҫ. Р Р°РҪРҫ или РҝРҫР·РҙРҪРҫ, РёРҪРҫРіРҙР° СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ СҒР»СғСҮайРҪРҫ, РІР·СӢСҒРәивал РҫРҪ РҙРҫлг Рё РІР·СӢСҒРәивал СҒ лихвРҫСҺ. Р’ СҒРҫСҮРёРҪРөРҪРёСҸС… РөРіРҫ РҪайРҙРөСҲСҢ РјРҪРҫРіРҫ СҒР»РөРҙРҫРІ Рё СҒРІРёРҙРөСӮРөР»СҢСҒСӮРІ РҝРҫРҙРҫРұРҪСӢС… РІР·СӢСҒРәР°РҪРёР№. РҰР°СҖР°РҝРёРҪСӢ, РҪР°РҪРөСҒРөРҪРҪСӢРө РөРјСғ СҒ СғРјСӢСҒР»РҫРј или РұРөР· СғРјСӢСҒла, РҪРө СҒРәРҫСҖРҫ заживали Сғ РҪРөРіРҫ" *
* Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ Рҹ.Рҗ. РЎРҫСҮ. Рў.1.РЎ.159. - Р—РҙРөСҒСҢ РІРҫР·РјРҫР¶РҪСӢ РёСҒРәажРөРҪРёСҸ, РІСӢР·РІР°РҪРҪСӢРө РҫСҲРёРұРәами РҪР°РұРҫСҖР° РұСҖРҫСҲСҺСҖСӢ - V.V.
РһРұРёРҙРҪСӢР№ РҫСӮР·СӢРІ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ, РІРёРҙРҪРҫ, РәСҖРөРҝРәРҫ Р·Р°СҒРөР» РІ РіРҫР»РҫРІРө РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РЎРөСҖРіРөРөРІРёСҮР°, Рё РІ РҝРҫСҒлаРҪРёРё Рә ЧааРҙР°РөРІСғ, РҝРҫСҸРІРёРІСҲРөРјСҒСҸ РІ "РЎСӢРҪРө РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІР°" РІ 1821 РіРҫРҙСғ (СҮ. 72, в„– XXXV, СҒ.82-84), РҫРҪ РҝРҫСҮСӮРё РІ СӮРөС… Р¶Рө РІСӢСҖажРөРҪРёСҸС… РҝРҫРІСӮРҫСҖРёР» СҒРІРҫСҺ СҚРҝРёРіСҖаммСғ. РҡР°Рә РёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, СӮРөРәСҒСӮ РҹСғСҲРәРёРҪР° СҒР»РөРҙСғСҺСүРёР№:
Р§СӮРҫ РҪСғР¶РҙСӢ РұСӢР»Рҫ РјРҪРө РІ СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј СҒСғРҙРө
РҘРҫР»РҫРҝР° Р·РҪР°СӮРҪРҫРіРҫ, РҪРөРІРөР¶РҙСӢ РҝСҖРё Р·РІРөР·РҙРө
Рҳли филРҫСҒРҫфа, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІ РҝСҖРөР¶РҪРё Р»РөСӮР°
РазвСҖР°СӮРҫРј РёР·СғРјРёР» СҮРөСӮСӢСҖРө СҮР°СҒСӮРё СҒРІРөСӮР°,
РқРҫ, РҝСҖРҫСҒРІРөСӮРёРІ СҒРөРұСҸ, заглаРҙРёР» СҒРІРҫР№ РҝРҫР·РҫСҖ:
РһСӮРІСӢРәРҪСғР» РҫСӮ РІРёРҪР° Рё СҒСӮал РәР°СҖСӮРөР¶РҪСӢР№ РІРҫСҖ?
РһРҙРҪР°РәРҫ СҚСӮРё СҒСӮРёС…Рё РҪРө РұСӢли РҪР°РҝРөСҮР°СӮР°РҪСӢ РІ СӮРҫРј РІРёРҙРө, РІ РәР°РәРҫРј РёС… РҪР°РҝРёСҒал РҹСғСҲРәРёРҪ; СҶРөРҪР·СғСҖР° РІСӢСҮРөСҖРәРҪСғла РІСӮРҫСҖРҫР№ СҒСӮРёС…. РўРҫРіРҙР° РёР·РҙР°СӮРөР»СҢ "РЎСӢРҪР° РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІР°" Рқ. Р“СҖРөСҮ РҙР»СҸ СҒРҫС…СҖР°РҪРөРҪРёСҸ СҒРјСӢСҒла Рё СҖазмРөСҖР° СӮСҖРөСӮСҢРөРіРҫ СҒСӮРёС…Р°, замРөРҪРёР» РІ РҪРөРј СҒРҫСҺР· "или" СҒР»РҫРІРҫРј "РіР»СғРҝСҶР°". РқР°РҝРөСҮР°СӮР°РҪРҫ
Р§СӮРҫ РҪСғР¶РҙСӢ РұСӢР»Рҫ РјРҪРө РІ СӮРҫСҖР¶РөСҒСӮРІРөРҪРҪРҫРј СҒСғРҙРө
ГлСғРҝСҶР° филРҫСҒРҫфа, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІ РҝСҖРөР¶РҪРё Р»РөСӮР°
РазвСҖР°СӮРҫРј РёР·СғРјРёР» СҮРөСӮСӢСҖРө СҮР°СҒСӮРё СҒРІРөСӮР°... Рё СӮ.Рҙ.
РЈРІРёРҙРөРІ РёСҒРәажРөРҪРёРө СҒРІРҫРёС… СҒСӮРёС…РҫРІ РІ РҝРөСҮР°СӮРё, РҹСғСҲРәРёРҪ РҝРёСҒал Р“СҖРөСҮСғ (21 СҒРөРҪСӮ. 1821 Рі.): "Р—Р°СҮРөРј РіР»СғРҝРөСҶ? РЎСӮРёС…Рё РҫСӮРҪРҫСҒСҸСӮСҒСҸ Рә амРөСҖРёРәР°РҪСҶСғ РўРҫР»СҒСӮРҫРјСғ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІРҫРІСҒРө РҪРө РіР»СғРҝРөСҶ, РҪРҫ лиСҲРҪСҸСҸ РұСҖР°РҪСҢ РҪРө РұРөРҙР°". Р§СӮРҫ РҹСғСҲРәРёРҪ РҪРө СҒСҮРёСӮал РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ Р·Р° РіР»СғРҝСҶР°, РІРёРҙРҪРҫ СӮР°РәР¶Рө РёР· РҝРёСҒСҢРјР° РөРіРҫ Рә Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРјСғ (2 СҸРҪРІ. 1822 Рі.), РіРҙРө РҫРҪ РіРҫРІРҫСҖРёСӮ, СҮСӮРҫ РөСҒли РҫРҪ Р·Р°РҙРөР» РҡР°СҮРөРҪРҫРІСҒРәРҫРіРҫ РІ РҝРҫСҒлаРҪРёРё Рә ЧааРҙР°РөРІСғ, СӮРҫ "РІРҫРІСҒРө РҪРө РёР· РҪРөРҪавиСҒСӮРё Рә РҪРөРјСғ, РҪРҫ СҮСӮРҫРұСӢ РҝРҫСҒСӮавиСӮСҢ СҒ РҪРёРј РҪР° РҫРҙРҪРҫРј СҖСҸРҙСғ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ, РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ РҝСҖРөР·РёСҖР°СӮСҢ РјСғРҙСҖРөРҪРөРө".
РҹСҖРё РёР·РҙР°РҪРёРё "РҡавРәазСҒРәРҫРіРҫ РҝР»РөРҪРҪРёРәР°" РҹСғСҲРәРёРҪ С…РҫСӮРөР» РІР·СҸСӮСҢ СҚРҝРёРіСҖафРҫРј Рә РҪРөРјСғ СҒСӮРёС…Рё Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРіРҫ, РҫСӮРҪРҫСҒСҸСүРёРөСҒСҸ Рә РўРҫР»СҒСӮРҫРјСғ:
РҹРҫРҙ РұСғСҖРөР№ СҖРҫРәР° - СӮРІРөСҖРҙСӢР№ РәамРөРҪСҢ,
Р’ РІРҫР»РҪРөРҪРёСҸС… СҒСӮСҖР°СҒСӮРё - Р»РөРіРәРёР№ лиСҒСӮ, -
РҪРҫ РҫРҪ РҫСӮРәазалСҒСҸ РҫСӮ СҚСӮРҫРіРҫ РҪамРөСҖРөРҪРёСҸ РёР·-Р·Р° СҒСҒРҫСҖСӢ СҒ РўРҫР»СҒСӮСӢРј. "РҹРҫРҪРёРјР°РөСҲСҢ, РҝРҫСҮРөРјСғ СҸ РҪРө РҫСҒСӮавил РөРіРҫ? " - СҒРҝСҖР°СҲРёРІР°РөСӮ РҫРҪ Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРіРҫ РІ РҝРёСҒСҢРјРө Рә РҪРөРјСғ (РҫСӮ 14РҫРәСӮ. 1821 Рі.).
Р’СҸР·РөРјСҒРәРёР№ РҪР°РҝРёСҒал РҹСғСҲРәРёРҪСғ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РҪРө РҫРҙРҫРұСҖСҸРөСӮ РөРіРҫ РІСӢРҝР°РҙР° РҝСҖРҫСӮРёРІ РҗРјРөСҖРёРәР°РҪСҶР°. РҹСғСҲРәРёРҪ РҫСӮРІРөСӮРёР» РөРјСғ СҒР»РөРҙСғСҺСүРөРө:
"...РҳР·РІРёРҪРё РјРөРҪСҸ, РөСҒли РұСғРҙСғ РіРҫРІРҫСҖРёСӮСҢ СҒ СӮРҫРұРҫСҺ РҝСҖРҫ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ. РңРҪРөРҪРёРө СӮРІРҫРө РјРҪРө РҙСҖагРҫСҶРөРҪРҪРҫ. РўСӢ РіРҫРІРҫСҖРёСҲСҢ, СҮСӮРҫ СҒСӮРёС…Рё РјРҫРё РҪРёРәСғРҙР° РҪРө РіРҫРҙСҸСӮСҒСҸ, Р—РҪР°СҺ, РҪРҫ РјРҫРө РҪамРөСҖРөРҪРёРө РұСӢР»Рҫ РҪРө завРҫРҙРёСӮСҢ РҫСҒСӮСҖРҫСғРјРҪСғСҺ лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪСғСҺ РІРҫР№РҪСғ, РҪРҫ СҖРөР·РәРҫР№ РҫРұРёРҙРҫР№ РҫСӮРҝлаСӮРёСӮСҢ Р·Р° СӮайРҪСӢРө РҫРұРёРҙСӢ СҮРөР»РҫРІРөРәР°, СҒ РәРҫСӮРҫСҖСӢРј СҸ СҖР°СҒСҒСӮалСҒСҸ РҝСҖРёСҸСӮРөР»РөРј Рё РәРҫСӮРҫСҖРҫРіРҫ СҒ жаСҖРҫРј Р·Р°СүРёСүал РІСҒСҸРәРёР№ СҖаз, РәР°Рә РҝСҖРөРҙСҒСӮавлСҸР»СҒСҸ СӮРҫРјСғ СҒР»СғСҮай. ЕмСғ РҝРҫРәазалРҫСҒСҢ Р·Р°РұавРҪРҫ СҒРҙРөлаСӮСҢ РёР· РјРөРҪСҸ РҪРөРҝСҖРёСҸСӮРөР»СҸ Рё СҒРјРөСҲРёСӮСҢ РҪР° РјРҫР№ СҒСҮРөСӮ РҝРёСҒСҢмами СҮРөСҖРҙР°Рә РәРҪ. ШахРҫРІСҒРәРҫРіРҫ. РҜ СғР·РҪал РҫРұ РҪРөРј, РұСғРҙСғСҮРё СғР¶Рө СҒРҫСҒлаРҪ, Рё, РҝРҫСҮРёСӮР°СҸ РјСүРөРҪРёРө РҫРҙРҪРҫР№ РёР· РҝРөСҖРІСӢС… С…СҖРёСҒСӮРёР°РҪСҒРәРёС… РҙРҫРұСҖРҫРҙРөСӮРөР»РөР№ - РІ РұРөСҒСҒилии СҒРІРҫРөРіРҫ РұРөСҲРөРҪСҒСӮРІР° Р·Р°РәРёРҙал РёР·Рҙали РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ Р¶СғСҖРҪалСҢРҪРҫР№ РіСҖСҸР·СҢСҺ. РЈРіРҫР»РҫРІРҪРҫРө РҫРұРІРёРҪРөРҪРёРө, РҝРҫ СӮРІРҫРёРј СҒР»Рҫвам, РІСӢС…РҫРҙРёСӮ РёР· РҝСҖРөРҙРөР»РҫРІ РҝРҫСҚР·РёРё; СҸ РҪРө СҒРҫглаСҒРөРҪ. РҡСғРҙР° РҪРөРҙРҫСҒСӮР°РөСӮ РјРөСҮ Р·Р°РәРҫРҪРҫРІ, СӮСғРҙР° РҙРҫСҒСӮР°РҪРөСӮ РұРёСҮ СҒР°СӮРёСҖСӢ. Р“РҫСҖР°СҶРёР°РҪСҒРәР°СҸ СҒР°СӮРёСҖР°, СӮРҫРҪРәР°СҸ, Р»РөРіРәР°СҸ Рё РІРөСҒРөлаСҸ РҪРө СғСҒСӮРҫРёСӮ РҝСҖРҫСӮРёРІ СғРіСҖСҺРјРҫР№ Р·Р»РҫСҒСӮРё СӮСҸР¶РөР»РҫРіРҫ РҝР°СҒРәРІРёР»СҸ. Сам Р’РҫР»СҢСӮРөСҖ СҚСӮРҫ СҮСғРІСҒСӮРІРҫвал. РўСӢ СғРҝСҖРөРәР°РөСҲСҢ РјРөРҪСҸ РІ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РёР· РҡРёСҲРёРҪРөРІР° РҝРҫРҙ СҚРіРёРҙРҫСҺ СҒСҒСӢР»РәРё РҝРөСҮР°СӮР°СҺ СҖСғРіР°СӮРөР»СҢСҒСӮРІР° РҪР° СҮРөР»РҫРІРөРәР°, живСғСүРөРіРҫ РІ РңРҫСҒРәРІРө. РқРҫ СӮРҫРіРҙР° СҸ РҪРө СҒРҫРјРҪРөвалСҒСҸ РІ СҒРІРҫРөРј РІРҫР·РІСҖР°СүРөРҪРёРё. РқамРөСҖРөРҪРёРө РјРҫРө РұСӢР»Рҫ РөС…Р°СӮСҢ РІ РңРҫСҒРәРІСғ, РіРҙРө СӮРҫР»СҢРәРҫ Рё РјРҫРіСғ СҒРҫРІРөСҖСҲРөРҪРҪРҫ РҫСҮРёСҒСӮРёСӮСҢСҒСҸ. РЎСӮРҫР»СҢ СҸРІРҪРҫРө РҪР°РҝР°РҙРөРҪРёРө РҪР° РіСҖ. РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ РҪРө РөСҒСӮСҢ малРҫРҙСғСҲРёРө. РЎРәазСӢРІР°СҺСӮ, СҮСӮРҫ РҫРҪ РҪР°РҝРёСҒал РҪР° РјРөРҪСҸ СҮСӮРҫ-СӮРҫ СғжаСҒРҪРҫРө. Р–СғСҖРҪалиСҒСӮСӢ РҙРҫлжРҪСӢ РұСӢли РҝСҖРёРҪСҸСӮСҢ РҫСӮР·СӢРІ СҮРөР»РҫРІРөРәР°, РҫРұСҖСғРіР°РҪРҪРҫРіРҫ РІ РёС… Р¶СғСҖРҪалРө. РңРҫР¶РҪРҫ РҝРҫРҙСғРјР°СӮСҢ, СҮСӮРҫ СҸ СҒ РҪРёРјРё Р·Р°РҫРҙРҪРҫ, Рё СҚСӮРҫ РјРөРҪСҸ РұРөСҒРёСӮ. Р’РҝСҖРҫСҮРөРј, СҸ С…РҫСҮСғ РёРјРөСӮСҢ РҙРөР»Рҫ СҒ РҫРҙРҪРёРј РўРҫР»СҒСӮСӢРј, РҪР° РұСғмагРө РұРҫР»РөРө СҒРІСҸР·СӢРІР°СӮСҢСҒСҸ РҪРө С…РҫСҮСғ. РҜ РұСӢ РјРҫРі РҫРҝСҖавРҙР°СӮСҢСҒСҸ РҝРөСҖРөРҙ СӮРҫРұРҫСҺ СҒРёР»СҢРҪРөРө Рё СҸСҒРҪРөРө, РҪРҫ СғважаСҺ СӮРІРҫРё СҒРІСҸР·Рё СҒ СҮРөР»РҫРІРөРәРҫРј, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ СӮР°Рә малРҫ РҪР° СӮРөРұСҸ РҝРҫС…РҫРҙРёСӮ".
Р’СғР»СҢС„ СҖР°СҒСҒРәазСӢвал РЎРөРјРөРІСҒРәРҫРјСғ, СҮСӮРҫ СҒСҒРҫСҖР° РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ СҒ РҹСғСҲРәРёРҪСӢРј РҝСҖРҫРёР·РҫСҲла РёР·-Р·Р° РҪРөСҮРөСҒСӮРҪРҫР№ РёРіСҖСӢ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ. РҳР· РІСӢСҲРөРҝСҖРёРІРөРҙРөРҪРҪРҫРіРҫ РҝРёСҒСҢРјР° РІРёРҙРҪРҫ, СҮСӮРҫ СҚСӮРҫ РҪРөРІРөСҖРҪРҫ. РӯСӮРҫ РІРёРҙРҪРҫ СӮР°РәР¶Рө РёР· РҝРёСҒСҢРјР° РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖР° РЎРөСҖРіРөРөРІРёСҮР° Рә СҒРІРҫРөРјСғ РұСҖР°СӮСғ РӣСҢРІСғ РҫСӮ 6 РҫРәСӮСҸРұСҖСҸ 1822 РіРҫРҙР°; РҫРҪ РҝРёСҒал РөРјСғ: "Р’СҒСҸ РјРҫСҸ СҒСҒРҫСҖР° СҒ РўРҫР»СҒСӮСӢРј РҝСҖРҫРёСҒС…РҫРҙРёСӮ РҫСӮ РҪРөСҒРәСҖРҫРјРҪРҫСҒСӮРё РәРҪ. ШахРҫРІСҒРәРҫРіРҫ".
"УжаСҒРҪРҫРө", РҪР°РҝРёСҒР°РҪРҪРҫРө РўРҫР»СҒСӮСӢРј, - СҚСӮРҫ СҒР»РөРҙСғСҺСүР°СҸ РіСҖСғРұР°СҸ Рё СӮСҸР¶РөР»РҫРІРөСҒРҪР°СҸ СҚРҝРёРіСҖамма:
РЎР°СӮРёСҖСӢ РҪСҖавСҒСӮРІРөРҪРҪРҫР№ СҸР·РІРёСӮРөР»СҢРҪРҫРө жалРҫ
РЎ РҝР°СҒРәРІРёР»СҢРҪРҫР№ РәР»РөРІРөСӮРҫР№ РҪРө СҒС…РҫРҙСҒСӮРІСғРөСӮ РҪималРҫ.
Р’ РІРҫСҒСӮРҫСҖРіРө РҝРҫРҙР»СӢС… СҮСғРІСҒСӮРІ СӮСӢ, Р§СғСҲРәРёРҪ, СӮРҫ Р·Р°РұСӢР»,
РҹСҖРөР·СҖРөРҪРҪСӢРј СҮСӮСғ СӮРөРұСҸ, РҪРёСҮСӮРҫР¶РҪСӢРј СҒРәРҫР»СҢРәРҫ СҮСӮРёР».
РҹСҖРёРјРөСҖРҫРј СӮСӢ СҖази, Р° РҪРө СҒСӮРёС…РҫРј РҝРҫСҖРҫРәРё,
Рҳ РІСҒРҝРҫРјРҪРё, РјРёР»СӢР№ РҙСҖСғРі, СҮСӮРҫ Сғ СӮРөРұСҸ РөСҒСӮСҢ СүРөРәРё" *.
* РҗР»СҢРј. "РӣРёСӮРөСҖР°СӮСғСҖРҪР°СҸ РјСӢСҒР»СҢ". РҹРі., 1923. Р’СӢРҝ. 2.РЎ. 237-238.
РӯСӮСғ СҚРҝРёРіСҖаммСғ РўРҫР»СҒСӮРҫР№ РҝРҫСҒлал РІ СҖРөРҙР°РәСҶРёСҺ "РЎСӢРҪР° РһСӮРөСҮРөСҒСӮРІР°" РҙР»СҸ РҪР°РҝРөСҮР°СӮР°РҪРёСҸ, РҪРҫ СҖРөРҙР°РәСҶРёСҸ РұлагРҫСҖазСғРјРҪРҫ РІРҫР·РҙРөСҖжалаСҒСҢ РҫСӮ СҚСӮРҫРіРҫ. РқРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ, РұСӢла ли РҫРҪР° СҒРҫРҫРұСүРөРҪР° РҹСғСҲРәРёРҪСғ, Рё РөСҒли РұСӢла СҒРҫРҫРұСүРөРҪР°, СӮРҫ РәРҫРіРҙР° РёРјРөРҪРҪРҫ; РёСҒСӮРҫСҖРёРәРё Р¶Рө лиСӮРөСҖР°СӮСғСҖСӢ РҪРө Р·РҪали РөРө РҙРҫ РҝРҫСҒР»РөРҙРҪРөРіРҫ РІСҖРөРјРөРҪРё, Рё РІРҝРөСҖРІСӢРө РҫРҪР° РұСӢла РҪР°РҝРөСҮР°СӮР°РҪР° РұРҫР»РөРө СҮРөРј СҮРөСҖРөР· СҒСӮРҫ Р»РөСӮ - РІ 1923 РіРҫРҙСғ.
РҹСғСҲРәРёРҪ РҪРө СҒРҫРјРҪРөвалСҒСҸ РІ СӮРҫРј, СҮСӮРҫ РөРіРҫ СҒСҒРҫСҖР° СҒ РўРҫР»СҒСӮСӢРј РҙРҫлжРҪР° РәРҫРҪСҮРёСӮСҢСҒСҸ РҙСғСҚР»СҢСҺ; РҫРҪ СҒСҮРёСӮал, СҮСӮРҫ РҙРҫлжРөРҪ "РҫСҮРёСҒСӮРёСӮСҢСҒСҸ", РәР°Рә РҫРҪ РҝРёСҒал Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРјСғ. РҹРҫСҚСӮРҫРјСғ, живСҸ РІ РңихайлРҫРІСҒРәРҫРј, РҫРҪ СғРҝСҖажРҪСҸР»СҒСҸ РІ СҒСӮСҖРөР»СҢРұРө РёР· РҝРёСҒСӮРҫР»РөСӮР°; РҝСҖРё СҚСӮРҫРј РҫРҪ РіРҫРІРҫСҖРёР» Р’СғР»СҢС„Сғ, РІРөСҖСҸ РІ РҝСҖРөРҙСҒРәазаРҪРёРө РІРҫСҖРҫР¶РөРё: "РӯСӮРҫСӮ РјРөРҪСҸ РҪРө СғРұСҢРөСӮ, Р° СғРұСҢРөСӮ РұРөР»РҫРәСғСҖСӢР№, СӮР°Рә РәРҫР»РҙСғРҪСҢСҸ РҪР°РҝСҖРҫСҖРҫСҮила".
Р’ 1825 РіРҫРҙСғ, РіРҫСӮРҫРІСҸ РҝРөСҖРІСӢР№ СҒРұРҫСҖРҪРёРә СҒРІРҫРёС… СҒСӮРёС…РҫРІ, РҹСғСҲРәРёРҪ РёСҒРәР»СҺСҮРёР» РёР· РҝРҫСҒлаРҪРёСҸ Рә ЧааРҙР°РөРІСғ СҒСӮРёС…Рё, РҫСӮРҪРҫСҒСҸСүРёРөСҒСҸ Рә РўРҫР»СҒСӮРҫРјСғ, РҪРҫ РІРҫРІСҒРө РҪРө РҙР»СҸ СӮРҫРіРҫ, СҮСӮРҫРұСӢ СҒРҙРөлаСӮСҢ СҲаг Рә РҝСҖРёРјРёСҖРөРҪРёСҺ СҒ РҪРёРј. "Р’СӢРјР°СҖал СҸ СҚСӮРё СҒСӮРёС…Рё, - РҝРёСҒал РҫРҪ Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРјСғ РІ Р°РҝСҖРөР»Рө 1825 РіРҫРҙР°, - РөРҙРёРҪСҒСӮРІРөРҪРҪРҫ РҙР»СҸ СӮРөРұСҸ, Р° РҪРө РҝРҫСӮРҫРјСғ, СҮСӮРҫ РҫРҪРё РҙСҖСғРіРёРј РҪРө РҝРҫ РҪСғСӮСҖСғ". Р‘СҖР°СӮСғ, РәРҫСӮРҫСҖСӢР№ РІРјРөСҒСӮРө СҒ РҹР»РөСӮРҪРөРІСӢРј С…Р»РҫРҝРҫСӮал РҫРұ РёР·РҙР°РҪРёРё, РҫРҪ РҝРёСҒал 12 РёСҺР»СҸ 1824 РіРҫРҙР°: "Рһ РҝРҫСҒлаРҪРёРё Рә ЧааРҙР°РөРІСғ СҒРәажСғ СӮРөРұРө, СҮСӮРҫ РҝРҫСүРөСҮРёРҪСӢ РҝРҫРІСӮРҫСҖСҸСӮСҢ РҪРө РҪСғР¶РҪРҫ. РўРҫР»СҒСӮРҫР№ СҸРІРёСӮСҒСҸ Сғ РјРөРҪСҸ РІРҫ РІСҒРөРј РұР»РөСҒРәРө РІ 4-РҫР№ РәРҪРёРіРө РһРҪРөРіРёРҪР°, РөСҒли РөРіРҫ РҝР°СҒРәРІРёР»СҢ СҚСӮРҫРіРҫ СҒСӮРҫРёСӮ, Р° РҝРҫСҒРөРјСғ РҝРҫРҝСҖРҫСҒРё РөРіРҫ СҚРҝРёРіСҖаммСғ РҫСӮ Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРіРҫ (РҪРөРҝСҖРөРјРөРҪРҪРҫ) ". Р’Р·СҸР» ли РӣРөРІ РЎРөСҖРіРөРөРІРёСҮ СҚРҝРёРіСҖаммСғ РўРҫР»СҒСӮРҫРіРҫ Сғ Р’СҸР·РөРјСҒРәРҫРіРҫ Рё РҝРөСҖРөСҒлал ли РөРө РҗР»РөРәСҒР°РҪРҙСҖСғ РЎРөСҖРіРөРөРІРёСҮСғ, - РҪРөРёР·РІРөСҒСӮРҪРҫ.
Р’ 1826 РіРҫРҙСғ РҹСғСҲРәРёРҪ РҝРҫР»СғСҮРёР» РІРҫР·РјРҫР¶РҪРҫСҒСӮСҢ жиСӮСҢ РІ СҒСӮРҫлиСҶах; СӮРөРҝРөСҖСҢ РҫРҪ РјРҫРі "РҫСҮРёСҒСӮРёСӮСҢСҒСҸ", СӮ.Рө. Р·Р°РәРҫРҪСҮРёСӮСҢ СҒРІРҫСҺ СҒСҒРҫСҖСғ СҒ РўРҫР»СҒСӮСӢРј РҙСғСҚР»СҢСҺ. Рҹ. БаСҖСӮРөРҪРөРІ СҒРҫРҫРұСүР°РөСӮ *, СҮСӮРҫ РЎ.Рҗ.РЎРҫРұРҫР»РөРІСҒРәРёР№, РҝРҫ РҝСҖРёРөР·РҙРө РҹСғСҲРәРёРҪР° РІ РңРҫСҒРәРІСғ, РҫСӮРҝСҖавилСҒСҸ Рә РҪРөРјСғ Рё Р·Р°СҒСӮал РөРіРҫ Р·Р° СғжиРҪРҫРј. РўСғСӮ Р¶Рө, РөСүРө РұСғРҙСғСҮРё РІ
РҡРһРЁРңРҗРДВУРҘ РЎРўРһРӣРҳРҰ
1 СҒРҫРҫРұСүРөРҪРёРө
• РЎСӮСҖР°РҪРёСҶР° 1 РёР· 1
1 СҒРҫРҫРұСүРөРҪРёРө
• РЎСӮСҖР°РҪРёСҶР° 1 РёР· 1
Р’РөСҖРҪСғСӮСҢСҒСҸ РІ РҹСҸСӮСӢР№ СҚР»РөРјРөРҪСӮ
РҡСӮРҫ СҒРөР№СҮР°СҒ РҪР° РәРҫРҪС„РөСҖРөРҪСҶРёРё
РЎРөР№СҮР°СҒ СҚСӮРҫСӮ С„РҫСҖСғРј РҝСҖРҫСҒРјР°СӮСҖРёРІР°СҺСӮ: РҪРөСӮ Р·Р°СҖРөРіРёСҒСӮСҖРёСҖРҫРІР°РҪРҪСӢС… РҝРҫР»СҢР·РҫРІР°СӮРөР»РөР№ Рё РіРҫСҒСӮРё: 0