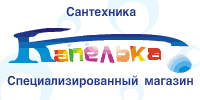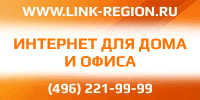–Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
–°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є: 11
• –°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ 1 –Є–Ј 1
–Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
–Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є –Т. –Ф–∞–Љ—М–µ "–Ч–∞–±—Л—В—Л–є –Ш–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї": –Ш–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –≤ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–µ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Т–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ 1890-—Е - 1900-—Е –≥–≥. –µ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –љ–∞ –і—А–Њ–±–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Ф–ї—П —В—А—Г–і–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –±—Л–ї–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М. –Т —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Њ–љ –±—Л–ї –±–ї–Є–Ј–Њ–Ї –Ї —В—А—Г–і—Г —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Д–∞–±—А–Є—З–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є —Н—В–Є–Ї—Г –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є. –Ю–љ–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–љ–Є—П–Љ–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –≤ —Б—Д–µ—А–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є—Е —В—А—Г–і–∞, —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є —В.–і. –Т—Б–µ —Н—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Г –љ–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –љ–∞–і –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П[i].
–Ю—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ, –љ–∞—З–∞–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ XIX –Є XX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є (–Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–≤ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Б–≥–Њ—А–∞–љ–Є—П), –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–Є –Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е. –®–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —Б–і–≤–Є–≥–∞–Љ –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞—Е, –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —В—А—Г–і–∞ –Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –†–∞–±–Њ—З–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –≤ –≥–Њ–Љ–Њ–≥–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї–∞—Е –Є —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е, —З—В–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Я—А–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–Њ—Б—В–µ –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–∞–≥–љ–∞—Ж–Є—П –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–≤. –Ґ–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –њ–Њ–і—А—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–≤—Л–Ї–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є, –Љ–∞—И–Є–љ –Є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є —А–∞–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є —В—А—Г–і –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є, —З—В–Њ –≤–µ–ї–Њ –Ї –і–µ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–µ–±–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г—В—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Э–Њ–≤—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞ (–њ—А—П–Љ–Њ–є –љ–∞–µ–Љ –≤—Б–µ—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–і–µ–ї—М—Й–Є–љ–∞, —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ—А–µ–Љ–Є–є, –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–Є—Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є) –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П–Љ –Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—П –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї—Г –љ–∞ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Є –Є—Е —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П...
(–Т 20-–µ - 30-–µ –≥–Њ–і—Л)
–†–∞–±–Њ—В–∞ –Є –ґ–Є–Ј–љ—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ–Є. –°—В–∞—А—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є, –Њ–±—Й–Є–љ–љ–∞—П –Є —Б–Њ—Б–µ–і—Б–Ї–∞—П –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—В —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—В–≤–Њ—А—П–ї–Є—Б—М –≤ –∞–љ–Њ–љ–Є–Љ–љ–Њ–Љ, –±–µ–Ј–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Б–µ—А–Њ–Љ –Љ–∞—А–µ–≤–µ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤-—Б–њ—А—Г—В–Њ–≤, –≥–і–µ –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ–ґ–µ–ї—В—Л–Љ –і—М—П–≤–Њ–ї–Њ–Љ¬ї –љ–∞–ґ–Є–≤—Л. –Ъ —Г–ґ–∞—Б—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Н—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–ї–Њ–Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–ї ¬Ђ–≤—Б–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї—В–Њ–є –њ—Л–ї—М—О¬ї, –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—А–∞–±–Њ—Й–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ь–∞—И–Є–љ–Њ–є. –Ґ–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—А–µ–Ї–∞–ї–Є –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Л. –Ю–љ–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ вАУ –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ –Љ–Њ—Й–љ–µ–є—И–µ–µ –Є –Њ—В—Г–њ–ї—П—О—Й–µ–µ вАУ –Њ—А—Г–і–Є–µ —Г–≥–љ–µ—В–µ–љ–Є—П: —Б –µ–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞–Љ –Є –≤–Ј—П—В—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–љ—П, –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В—М —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ —Б –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О, –±–µ–Ј –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –Ї–∞–ґ–і—Л–є –ґ–µ—Б—В, –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ–Є–≥. –†–Є—В–Љ—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Г–љ–Є—Б–Њ–љ —Б —В–∞–Ї—В–Њ–Љ –Ш–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ь–∞—И–Є–љ—Л.
–Э–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ–±–Њ—З–Є–љ—Г. ¬Ђ–Я—А–Є–і—П —Г—В—А–Њ–Љ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –Є —Б—В–∞–≤ —Г —Б—В–∞–љ–Ї–∞, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М —Г–≤–µ—А–µ–љ, вАУ –љ–µ –µ–≥–Њ –ї–Є –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, вАУ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –С—А—Г–љ–Њ –ѓ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–і –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є. вАУ –І–µ—В—Л—А–µ—Б—В–∞ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л—Е –њ–∞—А –≥–ї–∞–Ј, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г, –±–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ –њ—П—В–∞–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—М–µ, –њ—А–Њ—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є, –Є —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–±–µ–≥–∞–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –µ–≥–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј—П—Й–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ. –І–µ—В—Л—А–µ—Б—В–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–≥–Њ—А–±–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞–і —Б—В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є, –±—Г–і—В–Њ –ґ–µ–ї–∞—П —Б—В–∞—В—М –µ—Й–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —Б–µ—А–µ–µ, –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–µ–µ, –≤ –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–љ–µ —А—Г–Ї –љ–∞–Љ–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л –љ–∞ —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ—О —Б—В–∞–љ–Ї–Є, –Є –Ј–∞–њ–ї–µ—В–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ–∞–ї—М—Ж—Л –ї–µ–њ–µ—В–∞–ї–Є: ¬Ђ—П –±—Л—Б—В—А–µ–µ –≤—Б–µ—Е!¬ї, ¬Ђ–љ–µ —П –≤–µ–і—М! –љ–µ —П!¬ї.
–Э–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ –љ–µ –Љ–∞—И–Є–љ–∞. –°–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л –Є —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—А–Њ–≥–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є —З—В–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є —И–ї–Є –≤ ¬Ђ—Б–≤–Њ–є¬ї –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –±–∞—Б—В–Њ–≤–∞—В—М, –ї–Є–і–µ—А—Л, –ґ–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–≤–Ј–љ–Њ—Б—Л, –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є –Є—Е —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–± –Њ–±—Й–µ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є –Є –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –љ–µ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —А—П–і–Њ–≤—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –ї–Є–і–µ—А—Л ¬Ђ–Є—Е¬ї –њ–∞—А—В–Є–є –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Є—Е –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞—В—М –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В—Л –љ–µ –Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –њ–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞ –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Б–Ї–Є—Е –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е –Є –љ–µ –і–Њ–±—М—О—В—Б—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–µ—Д–Њ—А–Љ, —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є, –њ–µ–љ—Б–Є–є –Є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤...
–Ъ–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б –Ь–Р–Ґ 1928
–У–ї–∞–≤–љ–Њ–є —В–µ–Љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б–∞ 1928 –≥. —Б—В–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–і–≤–Є–≥–∞—Е, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Д–Њ—А–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П. –≠—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –†–Њ–Ї–Ї–µ—А–∞ –Њ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Ѓ–∞—А–∞ –Њ 6-—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–љ–µ.
–°–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ь–Р–Ґ –†–Њ–Ї–Ї–µ—А, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е —В–µ–Њ—А–Є–Є, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤—Б–µ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–њ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–і–≤–Є–≥–Њ–≤ –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —В—А—Г–і–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є–ї. –Ю–љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї, —З—В–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ –Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—З–љ–µ–µ, —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–µ–µ, —З–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є –Є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М ¬Ђ–Њ–±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П¬ї –Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ ¬Ђ–љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ—Г—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М¬ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П, –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—В–∞–Ї—Г. –≠—В–Њ –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–љ—Л–Љ–Є —П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ ¬Ђ—Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ—Л–є¬ї –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ ¬Ђ–Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є¬ї –Ї—А–Є–Ј–Є—Б, –∞ —Г—Б–Є–ї–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї—А–Є–Ј–Є—Б ¬Ђ–њ–µ—А–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–∞—Б—Б. –Т –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ —А–µ—И–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Ј–∞ —Б—З–µ—В —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ–∞–≥–Є—А—Г—П –љ–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є –Є —Б–і–≤–Є–≥–Є –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ (—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—Й–Є –°–®–Р –≤ —Г—Й–µ—А–± –Х–≤—А–Њ–њ–µ, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —А–Њ–ї–Є ¬Ђ–њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–є—Б—П¬ї –Р–Ј–Є–Є –Є —В.–і.), –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ ¬Ђ–≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –љ–Њ–≤—Г—О —Д–∞–Ј—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–±—Й–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–Љ, —З–µ–Љ –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ—Л –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ...¬ї.
–Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є¬ї, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–µ–љ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—П ¬Ђ–љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞¬ї (—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ґ–µ–є–ї–Њ—А–∞) –Є —Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї —В—А–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є: ¬Ђ1) –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—А—В–µ–ї–µ–є –Є —В—А–µ—Б—В–Њ–≤ —Б —Ж–µ–ї—М—О —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї—П—Е –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–і–Є–љ—Л—Е —Ж–µ–љ. 2) –°–∞–Љ–∞—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є–і—Г—Й–∞—П –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —В—А—Г–і–∞ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤. 3) –Я–ї–∞–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ–ї–∞ –Є —А–∞–Ј—Г–Љ–∞ –Ї —А–Є—В–Љ—Г –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–∞¬ї.
–Р–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є¬ї –Ї ¬Ђ–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П ¬Ђ—Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –ї—О–±–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞—В—М —Ж–µ–љ—Л¬ї. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Н—В–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —А–Њ—Б—В —Ж–µ–љ –Є –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –±—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –ї–Њ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є –љ–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є, —А–Њ—Б—В –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В–∞–ї–∞ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. ¬Ђ...–Ь–∞—И–Є–љ—Г –Є–Ј –њ–ї–Њ—В–Є –Є –Ї—А–Њ–≤–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–±—Г–і–Є—В—М –Ї –±–Њ–ї—М—И–µ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—И—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ –µ–µ –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П..., вАУ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –†–Њ–Ї–Ї–µ—А. вАУ –†–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї, –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Є –љ–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–љ–Є–±–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–Њ–≤—Л–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ, –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Є–Ј–љ–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Є —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, —З–µ–Љ –њ—А–µ–ґ–і–µ, –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї—Г¬ї.
–†–Њ–Ї–Ї–µ—А —А–∞–Ј–≤–Є–ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –∞–љ–∞—А—Е–Њ-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ј–Љ–∞ –Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–µ –Ї–∞–Ї –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–Љ —А–Њ—Б—В–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –≤–µ–і—Г—Й–µ–Љ –Ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г. –Ю–љ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ—А–≥ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–Њ–≤—Л–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–і–≤–Є–≥–Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—О—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–Є. ¬Ђ–Э–∞–Љ —Е–Њ—В—П—В –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, вАУ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П –†–Њ–Ї–Ї–µ—А, вАУ —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±—Г–і—Г—В —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –і–ї—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞... –†–∞–Ј–≤–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –ґ–µ–ї—Г–і–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В?... –†–∞–Ј–≤–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –Є —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, —З–µ–Љ –≤—Б–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Л —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞?¬ї
–†–Њ–Ї–Ї–µ—А —Б–µ—В–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ–ї–µ–љ—Г –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, —З—В–Њ –≤–Є–і–Є—В –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Є—Б—Б–Є—О¬ї –Є –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В ¬Ђ–≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї. ¬Ђ–Ы–Є—И—М —В–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ—Б—В–∞—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞–і–µ—О—В—Б—П —Г–≤–Є–і–µ—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –і–ї—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞...¬ї. –Ю–љ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ–∞—П –Є –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ—П—П –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Б –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А—Г–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –ї–Є—И—М –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–є –Љ–µ—В–Њ–і —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –ї—О–і–µ–є, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–є—Б—П —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –±–µ–Ј–і—Г—И–љ—Л–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М –Є –±–µ—Б—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ—Л–Љ. –Т —Н—В–Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і–∞—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤ –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –≥—А—П–і—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, —Е—Г–і—И–µ–є –Є–Ј —Д–Њ—А–Љ –ї—О–±–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є...¬ї[vi].
–°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –†–Њ–Ї–Ї–µ—А–∞, вАУ —Н—В–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Є–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –љ–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞, –Є –≤–µ–і—Г—В –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є. –Ґ—А—Г–і—П—Й–Є–µ—Б—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–љ—П—В—М, –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ, ¬Ђ—З—В–Њ –њ—Г—В—М –Ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г –≤–µ–і–µ—В –љ–µ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –і–ї—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –±–Њ–ї–µ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –Є –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П¬ї.
¬Ђ–†–µ—З—М –Є–і–µ—В –љ–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є —В—А—Г–і –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –і–Њ —А–Њ–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л¬ї, –µ—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В—Г –Ї–∞–Ї ¬Ђ—В—П–ґ–µ–ї—Г—О –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є ¬Ђ–љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–µ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ¬ї, - –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–ї –Њ–љ. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–µ—Б —Н—В–Њ–Љ—Г –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –§—Г—А—М–µ –Є–і–µ–µ ¬Ђ–њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —В—А—Г–і–∞¬ї, –Њ —В—А—Г–і–µ, –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Є —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ, –Ї–∞–Ї –Њ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ю–љ —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–ї ¬Ђ–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –≤–µ–і–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞–±—Б—В–≤—Г: ¬Ђ–†–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П - —Н—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–ї–Њ—В–Є –Є –Ї—А–Њ–≤–Є –Є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–∞–ї–Є –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞, –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е –і–Њ—Е–Њ–і—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є. –Ъ–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ—Л–є —В—А—Г–і –Є —Б–∞–Љ–Њ–µ —А–∞—Д–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–Њ–≤ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г—В—А–∞—В–Є–ї –≤—Б—П–Ї–Є–є —Б–Љ—Л—Б–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ–Њ–є –Є–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–ї–∞—В–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ–Љ –Є —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Ј–∞ —Б–∞–Љ—Г—О –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л —В—А—Г–і–∞ –Њ—В—Г–њ–ї—П—О—В —А–∞–Ј—Г–Љ –Є —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—О—В –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є; –Њ–љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –і–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—Й–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤...¬ї. –Ш–Ј –µ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–ї –Љ—А–∞—З–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і-–њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ: ¬Ђ–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ –≤ –µ–≥–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –≤—Б–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞—Б—Л...¬ї.
–Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Л –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Ј–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞—А—Е–Њ-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Њ–є¬ї –Ъ—А–Њ–њ–Њ—В–Ї–Є–љ–∞ - –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞: ¬Ђ–Э–µ—В, –љ–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–µ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–∞ –Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –∞ –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–∞, –і–µ—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–Є –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –Є –≤—Б–µ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞..., вАУ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞... –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ш —Н—В–Є–Љ —Г–ґ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Њ –љ–∞—И–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є¬ї, вАУ –њ–Њ–і—Л—В–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –Њ–љ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –†–Њ–Ї–Ї–µ—А–∞, –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А–∞–Љ–Є. –Ю–љ–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. ¬Ђ–†–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–µ¬ї, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Г –Њ—В ¬Ђ—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї –Ї ¬Ђ–Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ —В—А–µ—Б—В–Њ–≤ –Є –Ї–∞—А—В–µ–ї–µ–є¬ї —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Ь–Р–Ґ, –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є, –Ї –Њ—В–Ї–∞–Ј—Г –Њ—В –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ґ–Є–Љ–Њ–≤ –Є –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Г –Ї –і–Є–Ї—В–∞—В—Г—А–∞–Љ, –±—Г–і—М —В–Њ –≤ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–Љ –Њ–±–ї–Є—З—М–µ.
–Ф–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є —Д–∞—В–∞–ї–Є–Ј–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —Д—А–Њ–љ—В—Г. ¬Ђ–°–µ–≥–Њ–і–љ—П, –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –њ–Њ–і –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞—А—В–µ–ї–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ—Г –Ї–ї–∞—Б—Б—Г –љ—Г–ґ–љ—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –і—Г—Е–∞ –Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –≤ –µ–≥–Њ –±–Њ—А—М–±–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є —В–µ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–ї —А–∞–љ—М—И–µ¬ї, - –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –Њ–љ.
–Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ—Б—П —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—В—М –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є ¬Ђ–Є—Е¬ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Ж–µ–ї–Є. –Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –Є–Љ—Г—Й–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–є¬ї —Б—В—А–∞–љ—Л –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –Є–Ј–≤–ї–µ—З—М –≤—Л–≥–Њ–і—Л –Є–Ј –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–є¬ї –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–∞–ї, –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї –†–Њ–Ї–Ї–µ—А. –Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л —Б –Є—Е —Г–њ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Ј–Љ, –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ –Є —В.–і. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –ї–Є—И—М —Б–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ —А—Г–Ї–Є, –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є–Љ –љ–µ–≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В–і–∞–ї—П–µ—В –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Ф–∞–ї–µ–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ, —З–∞—Б—В–Є—З–љ—Л–µ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ —Б—В–∞—З–Ї–Є, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–Є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —В—А–∞–љ—Б–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—А—В–µ–ї–Є, –ї–µ–≥–Ї–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Њ—А–≤–∞—В—М –±–Њ—А—М–±—Г, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞–±–Њ—З—Г—О —Б–Є–ї—Г –≤ –Є–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞—Е. –Ю—В—Б—О–і–∞ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П. –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Є—Е —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Ї–∞—Б—В—Л –Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є ¬Ђ—А–∞–±–Њ—З–Є—Е —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞¬ї вАУ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –Є —В.–і. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—А—Л, –Њ–љ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –±–Њ—А—М–±—Г –Ј–∞ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, —В–∞–Ї —З—В–Њ–±—Л –µ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –≤—Б–µ.
–Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –Ї–ї—О—З–µ, —З—В–Њ –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –†–Њ–Ї–Ї–µ—А–∞, –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ѓ–∞—А–∞. ¬Ђ–†–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Б–≤–Њ–Є—Е —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–≥–Њ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –≤ —Г—Й–µ—А–± –µ–≥–Њ —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ..., вАУ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї –Њ–љ - –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ–∞–≥—Г–±–љ–∞ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞¬ї, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–µ—В –µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М[xii]. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≤ –µ–≥–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –±—Л–ї–Њ —Г–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ –Є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞–Љ –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ 6-—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–љ—П –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б–Љ—П–≥—З–Є—В—М –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж—Л.
(–Ъ–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б 1931)
–†–Њ–Ї–Ї–µ—А –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї вАУ —Н—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–µ–Љ–љ—Л–є —А–∞–±, –µ–Љ—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—В–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є, –Њ–љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ–≥ –Њ—В –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Њ–≤ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. ¬Ђ–Я–Њ—А—З–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П –Є —Е–∞–ї—В—Г—А–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П вАУ —Н—В–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ..., вАУ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –Њ–љ. вАУ –Ф–∞–ґ–µ –Њ–і–Є–љ —З–∞—Б –±–µ—Б—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ–є –Є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –і–µ–љ—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –Є–і–Є–Њ—В–∞. –Я—А–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є... –Т–Њ–њ—А–Њ—Б —Б—В–Њ–Є—В —В–∞–Ї: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї ¬Ђ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —Ж–µ–љ—В—А –љ–∞—И–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є¬ї. –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є¬ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –Є–Љ. –Ю–љ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—Б—П –≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –µ—Й–µ 50 –ї–µ—В, –ї—О–±–∞—П –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–µ—В¬ї.
–Р–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ –Ї–∞–Ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ вАУ –Ї–∞–Ї –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –∞–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ–∞ —Б—В–∞–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –∞–љ—В–Є–∞–≤—В–Њ—А–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Л–ї–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ш–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –С–∞–Ї—Г–љ–Є–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю–љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Є –Њ–±—А–µ–ї —Б–Є–ї—Г –љ–∞ –Є–Ј–ї–Њ–Љ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ вАУ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –•–• –≤–µ–Ї–∞. –Т —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–≤—И–Є—Е ¬Ђ—Ж–µ–љ—В—А¬ї –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–Љ—Г –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г, –∞ –љ–∞ ¬Ђ–њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є¬ї –Є ¬Ђ–њ–Њ–ї—Г–њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є¬ї –µ—Й–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –°—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П, –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞—П –Є—Е –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є, –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –≤ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –С—Л–≤—И–Є–µ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–Є –Њ—В—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–є, –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є—Б—П —Б—А–µ–і—Л, –∞ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ-—А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є —Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є –Њ—В –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ј–Ї–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –і–µ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞. –°–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –ї—О–і–µ–є —В—П–ґ–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є –∞—В–Њ–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–≤—И–µ–Љ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ¬ї.
–†–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ, –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –Ї–∞–Ї —Б–Є–ї–∞, –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥ –Ь–∞—А–Ї–Њ –†–µ–≤–µ–ї–ї–Є, –Њ–љ–Њ –Є ¬Ђ—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ—В—М –њ–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г, –±–Њ–ї–µ–µ (–Ї–∞–Ї –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї—Г–і–і–Є—В–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—О —Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л) –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ (–≤ –≤–Є–і–µ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –≤–Ј—П–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Б–µ–±—П —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л). –Э–Њ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Н—В–Њ ¬Ђ—А–∞–љ–љ–µ–µ¬ї –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Њ–њ–Є—А–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –µ—Й–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–Є–є—Б—П –Њ—В –і–Њ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е, —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Њ-—Ж–µ—Е–Њ–≤—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –і—Г—Е –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–±—Й–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–ї —Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є–Ј–Љ—Г. –†–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –і–Њ —В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є, –Є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ—Б—П, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–Љ —Б–µ–±–µ —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –µ–µ —Е–Њ–і –Є —Ж–µ–ї–Є, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б–∞–Љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Д–µ—А–∞ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞–Љ–Є –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П (–∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П–Љ–Є, —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–∞–Љ–Є, ¬Ђ–±–Є—А–ґ–∞–Љ–Є —В—А—Г–і–∞¬ї –Є —В.–і.), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –і–ї—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Л. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ –Є –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ.
–Т –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–∞–ї–Є—П—Е —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–µ—З–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є вАУ –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ вАУ –Ј–∞ —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ, –і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ –Є–ї–Є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –•–Њ—В—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л –Њ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ-–њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є—Д–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –≤—Б–µ –ґ–µ –Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –±—Л–ї –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ —А–∞–Ј—А—Л–≤ —Б —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ—Г –µ–µ –љ–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–є –њ—Г—В–µ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П, ¬Ђ—Б–љ–Є–Ј—Г –≤–≤–µ—А—Е¬ї.
–≠—В–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–ї–Є –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –Љ–∞—Б—Б—Л. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Ь—О—А—А–µ–є –С—Г–Ї—З–Є–љ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л —Н—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї —Н–њ–Њ—Е–Є –і–Њ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л: ¬Ђ–° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л—Е —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –≤–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –° –і—А—Г–≥–Њ–є, –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ вАУ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –≤—Б–µ—Е —В–µ–Њ—А–Є–є вАУ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —Б–µ–ї –Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б—В–≤–∞... –Ґ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є –і–Њ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Б –Є—Е —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є —А–Є—В–Љ–∞–Љ–Є –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Є–Љ–µ–µ—В —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є—Е –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞... –≠—В–∞ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–Њ–њ–ї–µ–Ї–∞ –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –Љ–Њ–Ј–∞–Є–Ї—Г –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤, —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –і–Њ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–ї–∞ –≤ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞—Е –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞—Е... –љ–µ—Г–≥–∞—Б–Є–Љ—Л–є, –њ–Њ—З—В–Є –∞–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М... –Я—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –•I–• вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –•–• –≤–≤. –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –≠—В–Є –ї—О–і–Є –±—Л–ї–Є –і–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є [–љ–µ –ї—О–Љ–њ–µ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –љ–µ—З—В–Њ —З—Г–ґ–і–Њ–µ, ¬Ђ–Є–љ–Њ–µ¬ї, вАУ –Т.–Ф.] –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—О, —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П; –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ—Л —Г—В—А–∞—В–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є –Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Г—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞, –ї—О–±–≤–Є –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є –Њ–±—Й–Є–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю—В—Б—О–і–∞ —И–µ–ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –і—Г—Е, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є¬ї.
–Ь—Л –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Љ–Є—А–µ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –•–• –≤–µ–Ї–∞ –Є –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–ї–Є–±–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї —Н–Ї—Б—В—А–∞–≤–∞–≥–∞–љ—В–љ—Л–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ—Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї¬ї –Є–ї–Є –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–Є —Б–∞–ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б –њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–љ—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≤–ї–µ—З—М —Б–Њ—В–љ–Є —В—Л—Б—П—З –Є–ї–Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –Є –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —А–µ—И–∞—О—Й–Є–є –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Њ–Ї –љ–∞ —Е–Њ–і –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л). –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –Њ–љ–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М —А—Г–ї—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤ —Б–≤–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—И–Є–±–Ї–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ—А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, –Њ—Б—В—А–Њ–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–Њ –≤ –µ–≥–Њ —А—П–і–∞—Е —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О —А–Њ–ї—М. –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –±—Л–ї–Њ –љ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ. –І—В–Њ-—В–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ вАУ –±—Л—Б—В—А–Њ, —З–∞—Б—В–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–Њ –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –і–ї—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є.
–Я–Њ –Љ–µ—А–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—Б–љ–Њ–≤ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—В—М —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Љ–∞—Б—Б –≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г. –°—О–і–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ —Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ-–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, —А–∞–Ј–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—П–Ї–∞ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е ¬Ђ—А–∞–±–Њ—З–Є—Е-—А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –Ј–∞ —Б—З–µ—В –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–ї–Њ–µ–≤ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Љ–µ–љ—М—И–µ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ.
–Ы–Є—И—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є –≥—А–Њ–Ј–Є–≤—И—Г—О –Є—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤–Є–і–љ—Л–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–∞ –†—Г–і–Њ–ї—М—Д –†–Њ–Ї–Ї–µ—А, —Г–ґ–µ –≤ 1931 –≥. –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–≤—И–Є–є –Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –≤–ї–Є—П–љ–Є–Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є–є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, –љ–∞—З–∞–≤—И–∞—П—Б—П —Б 1920-—Е –≥–≥. –Є –±—Г—А–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–∞—П—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —А–∞–Ј–і—А–Њ–±–ї–µ–љ–Є—О —В—А—Г–і–∞ –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є—З–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Э–Њ–≤—Л–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —В–Є–њ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ¬ї –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є –љ–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ –љ–∞–і –љ–Є–Љ. –Ю—Б—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–∞ —Б–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М –Є–Ј —Б—Д–µ—А—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б –µ–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –≤ —Б—Д–µ—А—Г —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞ –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї—Б—П —Г–њ–∞–і–Њ–Ї —В–µ—Е —В–µ—З–µ–љ–Є–є –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–∞ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Є –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –±–Њ—А—М–±—Г –Ј–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –љ–∞–і –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –≤ —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –С—Г–Ї—З–Є–љ, ¬Ђ—А–µ–Ј–Ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –Є —Ж–µ–ї—М –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–∞... –†–∞–±–Њ—З–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –∞ –љ–µ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –Є –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л¬ї.
(...)
–Т –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–≤—Г–ї—М—Б–Є—П—Е –і–≤—Г—Е –Љ–Є—А–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–є–љ, –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–є –Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є 1920-—ЕвАУ1930-—Е –≥–≥. (–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–і–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ш—Б–њ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О), –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞—Е –Є ¬Ђ—Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Њ-—В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–µ¬ї —А–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ¬ї, –≤–Ј—П–≤—И–µ–µ –љ–∞ —Б–µ–±—П —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Д–µ—А. –Т—В–Њ—А–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ, –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—О –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є–±–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ —Б —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–∞—Б—М –≤–Њ –Є–Љ—П –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї. –Ъ–µ–є–љ—Б–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–ї–∞—В–µ–ґ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —А–Њ—Б—В—Г –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, –Є—Е –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞–Љ –љ–∞ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Є—Е —А–∞—Б—В—Г—Й–Є—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—В—П–Ј–∞–љ–Є–є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–Є ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Б—В–≤–∞¬ї.
–Я—Л—В–∞—П—Б—М –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В—М –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, ¬Ђ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–µ–Ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –ї—О–±–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –±–Њ—А—М–±—Л¬ї –Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і—З–∞—Б –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–є —Б—А–µ–і–µ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –∞—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ–∞ –Ю—Б–≤–∞–ї—М–і–Њ –С–∞–є–µ—А –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–Р–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –±–µ–і–љ—П–Ї–Њ–≤, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –∞—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —П–≤–ї—П–ї–Њ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –љ—О–∞–љ—Б–Њ–≤, –∞ –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–∞–≤ —В—А—Г–і—П—Й–Є–µ—Б—П –±—Л–ї–Є –Њ—В–і–∞–љ—Л –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П. –Э–Њ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –Ї —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї—А–Њ—Е, —З—В–Њ–±—Л —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –љ–µ —А—Г—Е–љ—Г–ї–∞, —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –Є —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л, —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –≤–µ—А–љ—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞, –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤–µ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П, –∞–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –њ–Њ–і–Њ–±–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞. –Ю–љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –љ–µ–Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О: –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–є. –Э–Њ –Њ–љ –љ–∞—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ—Б—В—М¬ї. –°–≤–Њ—О —А–Њ–ї—М —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Є–ї–ї—О–Ј–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Є ¬Ђ—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞¬ї вАУ –°–°–°–†: —Н–є—Д–Њ—А–Є—П, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П –Ј–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–µ–є, ¬Ђ–≤—Л–±–Є–ї–∞ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Є–Ј —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—П¬ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Г—Б—В–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Г–њ–Њ—А–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л –∞–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Л ¬Ђ–±—Л–ї–Є —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–µ–љ—Л –±–Њ–ї–µ–µ –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ—Г—В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ–∞¬ї.
–Ъ–∞–Ї –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, –љ–Њ–≤—Л–µ —А–µ–∞–ї–Є–Є, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ ¬Ђ—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Љ–µ—В—М –і–ї—П –љ–Є—Е –≥–Є–±–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П. –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ: 1) –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ вАУ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є; 2) –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ї—Г—А—Б –Є –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Ї –љ–Њ–≤—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ вАУ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤; 3) –µ—Б–ї–Є –Њ–±–µ —Н—В–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–њ–∞–і–∞–ї–Є вАУ —Б–∞–Љ–Њ—А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М—Б—П –Є–ї–Є, —З—В–Њ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, –≤–Њ–є—В–Є –≤ –љ–µ—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј¬ї.
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П —А–∞–±–Њ—З–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ—Г, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ ¬Ђ–њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ¬ї –Є–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞. –Ґ–∞–Љ, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ –њ–Њ —В–µ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –±—Л–ї–∞ –Љ–µ–љ–µ–µ –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–∞ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Ї –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—В—А-–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ґ–∞–Ї, –і–∞–ґ–µ –≤ –Љ–µ–ґ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є, –≥–і–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤, –љ–Њ –љ–∞–і —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –і–Њ–≤–ї–µ–ї–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ 1918 –≥., —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ ¬Ђ–Њ—В–і–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ—В –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Є –≤—Б–µ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–∞—П —Б–µ—В—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –Т 1920-—Е –≥–Њ–і–∞—Е —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ–∞—А—В–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ—М–µ—Б—Л, —З–Є—В–∞–ї–Є –Ї–љ–Є–≥–Є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є, –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —В–Њ–≤–∞—А—Л –Є –і–µ–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –і–µ–љ—М–≥–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П—Е¬ї, вАУ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥ –†–Є—Б—В–Њ –Р–ї–∞–њ—Г—А–Њ. (33)
–Х—Й–µ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —Н—В–∞ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –≤ —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ш–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–Є—А–∞ (–Ш–†–Ь) –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –°–®–Р –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤. –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ (–њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Љ–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є) –≤ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ–ґ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є вАУ ¬Ђ–ї–Њ–Ї–∞–ї—Л¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. ¬Ђ–°–Њ–µ–і–Є–љ—П—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г, –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ш–†–Ь —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —Б–Њ—З–Є–љ—П–ї–Є –њ–Њ—Н–Љ—Л, –њ–µ—Б–љ–Є, —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–Є¬ї, –њ—Л—В–∞—П—Б—М ¬Ђ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Є—А —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞¬ї –Є ¬Ђ—Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –±–Њ–≥–∞—В—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П¬ї. (34)
–Т –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –Є–ї–Є –Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ–µ –і–µ—В–Є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ –ї–Є–±–µ—А—В–∞—А–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї–∞—Е; –љ–∞—З–∞–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М вАУ –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –≤ –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј; –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —Ж–µ–љ—В—А–∞—Е, —Ж–µ–љ—В—А–∞—Е —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞—Е, –љ–∞ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П—Е –Є–ї–Є –≤ –Ї–∞—Д–µ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ; –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ–Є-—А–∞–±–Њ—З–Є–Љ–Є –Ј–∞–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –њ–Є—В–∞–љ–Є—П –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ–Є –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М —Б –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –Є–ї–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞–Љ–Є –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї–≤–∞—А—В–Є—А. –Я—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –Є–Љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є, –і–Њ–±–Є–≤–∞—П—Б—М —В—А—Г–і–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж—Л.
–Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л–µ –∞–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ–њ–Њ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Р–±–µ–ї—М –Я–∞—Б —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В ¬Ђ—Б–µ—В–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є¬ї —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –С–∞—А—Б–µ–ї–Њ–љ–µ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ 1930-—Е –≥–≥.: ¬Ђ–С–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–∞—П вАУ –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ш—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –µ–µ –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М, –∞ –Њ–љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ вАУ –±—Л–ї–∞ –±—Л –і–∞–ґ–µ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–љ–Є–ґ–∞–ї–∞ –±—Л –±–Њ–µ–≤—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г –Є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–∞вА¶ –Я–µ—А–≤–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–µ—А–Њ–є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –ї–µ—В–Њ–Љ 1933 –≥., —Б—В–∞–ї–∞ —Б—В–∞—З–Ї–∞, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–ї–∞—В–Є—В—М –Ј–∞ –ґ–Є–ї—М–µ, –≥–∞–Ј –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ. –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Э–Ъ–Ґ –Є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–Њ–≤ –Ш–±–µ—А–Є–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Н—В—Г —Б—В–∞—З–Ї—Г —Б 1931 –≥. –Э–∞—З–∞–ї–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–Љ–Њ–≤—Л–µ, —Г–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Л. –Ю–љ–Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞–Љ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є—ПвА¶ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–µ –±—Л–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є –і–µ—В–Є: —В–∞–Љ, –≥–і–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є –Є –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—В—М —Б—К–µ–Љ—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Є—Е –Ї–≤–∞—А—В–Є—А.
–≠—В–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Л –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Б –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ—Л –Є ¬Ђ–њ–Њ–Ї—Г–њ–Њ–Ї –≤–Ј–∞–є–Љ—Л¬ївА¶ –Я–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л, –Ї–∞–Ї –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—М, –Љ–∞–Ї–∞—А–Њ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, –Љ–∞—Б–ї–Њ, —А–Є—Б, –±–Њ–±—Л –Є —В.–і. –Є –Њ–±–µ—Й–∞–ї–Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М –і–Њ–ї–≥ вАУ –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–є–і—Г—В —А–∞–±–Њ—В—ГвА¶
–Т –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –±–Є—А–ґ–Є —В—А—Г–і–∞вА¶ –С–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М. –Я—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–Є –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞—Е, –Є –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є –Є—Й—Г—Й–Є—Е —А–∞–±–Њ—В—Г —Б —Д–∞–±—А–Є–Ї. –Э–Њ –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л–µ —Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М —Г –≤–Њ—А–Њ—В —Д–Є—А–Љ –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —В–∞–Љ —Ж–µ–ї—Г—О –љ–µ–і–µ–ї—О, –њ–Њ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —З–∞—Б–Њ–≤ –≤ –і–µ–љ—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В–∞, –Њ–љ–Є –≤—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і—М —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є –њ—А–Є –Є—Е –Ј–∞—Й–Є—В–µ –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –Є–Љ –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –Є—Е ¬Ђ—Б–Є–і—П—З—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г¬ї. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –±—Г—А–ґ—Г–∞ —Г–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є –Є–Љ –Є—Е –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ–Ї–ї–∞–і –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л —В–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞. –Ґ–∞–Ї –Њ–љ–Њ –Є –±—Л–ї–Њ вАУ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ–љ–Є, –∞ –і—А—Г–≥–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ.
–Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–є –±–Њ—А—М–±–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –∞–Ї—Ж–Є—О ¬Ђ–њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е¬ї. –Ю–љ –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ—Л –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–±–µ–і–∞—В—М —В–∞–Љ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–ЊвА¶
–Ю–±—Й–µ–є —Ж–µ–ї—М—О –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–∞—П –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Љ–∞—Б—Б –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. (35) –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є –Ј–∞–і–∞—З—Г –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П (—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–є —П–≤–Њ—З–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ), –љ–Њ –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. ¬Ђ–Ґ–Њ–ї—М–Ї–ЊвА¶ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В—М –≤ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–і—В–Є –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –љ–µ—А–∞–Ј—А—Г—И–Є–Љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤ –∞–љ—В–Є–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –∞–љ—В–Є–Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–ЄвА¶, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В —А–µ–ґ–Є–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–Є –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е, –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ—Б—В–Њ–≤¬ї, вАУ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї –∞—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –§–Ю–†–Р –≠–Љ–Є–ї–Є–Њ –Ы–Њ–њ–µ—Б –Р—А–∞–љ–≥–Њ. (36) –Т —Е–Њ–і–µ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Њ–Ї, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–Є—Б—В–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –љ–Њ –Є –±–Њ–ї–µ–µ ¬Ђ—И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ¬ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞—З–Ї–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –њ–µ–Ї–∞—А–µ–љ –≤ –С–∞—А—Б–µ–ї–Њ–љ–µ –≤ 1923 –≥. –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л, –∞ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —Е–ї–µ–±–∞. (37)
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П –љ–Њ–≤–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Њ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є, –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —В–∞–Ї–Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е —З–µ—А—В, –Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ –Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ—Л—Е —А–Є—В—Г–∞–ї–Њ–≤, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–µ—Б–µ–љ, –Љ–Є—Д–Њ–≤, –Є–Љ–µ–љ –Є –і–∞–ґ–µ –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ–∞ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–†—Л–љ–Њ–Ї, ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ¬ї –Є ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬ї
–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ–є–љ–∞–Љ–Є –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Б—В—А–∞–љ –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —А–µ–Ј–Ї–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.
–Ф–ї—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–≥–Њ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є –Є –≤–Є–і–Њ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±–ї–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Ь–∞–Ї—Б–∞ –Т–µ–±–µ—А–∞, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ ¬Ђ–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ –љ—А–∞–≤–∞–Љ –Є –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞¬ї. (38) –Ш–Ј–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є –≤ –і–Њ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Є —А–∞–љ–љ–µ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б—Д–µ—А–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є (–µ—Б–ї–Є —А–µ—З—М –љ–µ —И–ї–∞ –Њ–± –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є –Њ–± –Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞) –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, —В–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б—В–∞–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—В—М—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —А—Л–љ–Њ–Ї. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Д–µ—А–∞ (–≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ–∞, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —Г—Е–Њ–і –Є —В.–і.), –±—Л–≤—И–∞—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –њ—А–µ—А–Њ–≥–∞—В–Є–≤–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–±—Л–ї–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –У–Њ—А—Ж, ¬Ђ–Љ–Њ–љ–µ—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–∞–Љ–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–Ј–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є¬ї. (39) –≠—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—Б—В –§.–Р. —Д–Њ–љ –•–∞–є–µ–Ї –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї, —З—В–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –љ–µ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е ¬Ђ–±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї, –∞ –љ–∞ —А—Л–љ–Њ—З–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—Е, –Є —А—Л–љ–Њ–Ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ —Б—В–∞—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤—П–Ј—Г—О—Й–Є–Љ –Ј–≤–µ–љ–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є. –Ь–µ—Б—В–∞ –і–ї—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –ї—О–і–µ–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Г–Ј–∞–Љ–Є –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Њ–љ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –Є –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ ¬Ђ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї –Ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О. (40)
–Э–∞—А—П–і—Г —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Т–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є (–њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ—Л—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї), –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Њ—Б—М –≤ –Љ–µ–ґ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –≤–µ–ї–Њ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞, —А–∞–Ј–і—А–Њ–±–ї–µ–љ–Є—О –µ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ, –і—А–Њ–±–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є —Г—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є—О —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞. –†–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ —Б–Љ—Л—Б–ї –Є —Ж–µ–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В—Л, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б–љ–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Е–Њ–і –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Я—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —В–Є–њ–Њ–Љ —Б—А–µ–і–Є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П —Б—В–∞–ї —В.–љ. ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є¬ї, –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є –Њ—В –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є —А–∞–љ–љ–µ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –Ш–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М –Є –µ–≥–Њ —З–∞—П–љ–Є—П: –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥ –Ч–Є–≥–Љ—Г–љ—В –С–∞—Г–Љ–∞–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї ¬Ђ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤¬ї. –Ъ–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —В—А—Г–і–Њ–Љ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Њ–Љ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј —Б—Д–µ—А—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ (–≥–і–µ –±–Њ—А—М–±–∞ —И–ї–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–∞–Ї–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —В—А—Г–і–∞ –Є –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П) –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П (–њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є). (41) –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ. –Ю–љ–Њ, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Ь–∞—А–Ї–Њ –†–µ–≤–µ–ї–Є, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≤ ¬Ђ–≥–∞—А–∞–љ—В–∞¬ї —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–њ—А–Є–±–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б ¬Ђ—В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–Љ¬ї —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б–Є–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–ї–∞—Б—Б–∞–Љ–Є. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –љ–∞–і —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ –Є –і—Г—И–Њ–є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–µ—А–і—Ж–µ–≤–Є–љ—Г –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ ¬Ђ–±—Г–љ—В–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–є¬ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Е –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —Б —Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є, –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –љ–∞ —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–ЄвА¶¬ї. (42)
–Я—А–µ–ґ–љ–µ–µ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ c–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Н—В–Њ—Б–Њ–Љ –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Г—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ (–љ–µ –±–µ–Ј –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –≤ —А—П–і–µ —Б—В–∞–љ –Ї –Њ—Б—В—А—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞–Љ –Є –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ–µ, –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –°–®–Р –Є –і—А.) (43) –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞–Љ, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ —В–µ–Љ –ґ–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ, —З—В–Њ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є, –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ј–∞ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —А–∞–Ј–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –Є —Б—В—А–∞—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ—Л—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –љ–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, —В.–љ. ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е, –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–Њ–≤. (44) –Э–Њ —В–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –њ–Њ–і—А—Л–≤ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ (–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ) –≤–µ—Б—В–Є –і–Є–∞–ї–Њ–≥ –Є –і–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е (–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—М –Ъ.–Ъ–∞—Б—В–Њ—А–Є–∞–і–Є—Б –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї ¬Ђ–∞–≥–Њ—А–Њ–є¬ї, –њ–Њ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є —Б –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Є—Б–Њ–Љ).
–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б—В—Г—Й–∞—П –і–µ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П. –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л: –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е, –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е, ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б–ї–∞–±—Л—Е¬ї, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є —В.–і. –Я—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Љ–µ–ґ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є —В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Є –Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б–њ–∞–і–Њ–Љ —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–≤—П–Ј–µ–є –Є —В—П–≥–Њ–є –Ї –Є—Е –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О. –Ш–ї–ї—О–Ј–Є—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. (45)
–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ—А—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–Є —Г—Б–ї—Г–≥ –≤ XX –≤–µ–Ї–µ —Б—В–∞–ї–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–µ–є –∞—В–Њ–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Э–Њ –њ–ї–∞—В–љ—Л–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–Љ. –Т —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Ј—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Њ –±—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М.
–†–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –њ–Њ–ї–љ—Л–є —А–∞—Б–њ–∞–і —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ–∞. –Ю–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ ¬Ђ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М¬ї —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞—Е. ¬ЂвА¶–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–∞—А–∞–љ—В–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞, вАУ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –±—А–Њ—И—О—А–µ, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є ¬Ђ–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї –Є –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. вАУ –Ю–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Ј–∞—Й–Є—В—Г —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –љ–Њ –Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –љ–µ—Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—Г—В–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —А–µ–ґ–Є–Љ–Њ–≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ—П–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В —А–∞–±–Њ—В—Л –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–± –Є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П. –°–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В–µ–ї—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—В—М —Б–µ–±—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї. (46)
–Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є –У–Њ—А—Ж, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞ ¬Ђ–і–µ—Д–Є—Ж–Є—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –љ–µ –і–∞–≤–∞—П ¬Ђ–≤–Њ–є–љ–µ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б–µ—Е¬ї –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Г. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1920-—Е вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 1930-—Е –≥–≥., –љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–љ–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б—В—А–∞–љ –≤–Ј—П–ї–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ. ¬Ђ–°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П¬ї –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ ¬Ђ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ї–∞–Ї —Н—А–Ј–∞—Ж –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Т –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О, –Њ–љ–ЊвА¶ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–Њ—Б—В–Њ–Љ –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —А—Л–љ–Ї–∞, –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–ї–∞—Б—Б–∞–Љ–Є (–њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Б—В–≤–Њ¬ї) –Є –і–µ–ї–∞–ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–Љ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л–Љ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–µ–Љ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –љ–µ–µ –љ–∞–ї–∞–≥–∞–ї–Њ¬ї. (47)
–Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л ¬Ђ—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–ї–Њ¬ї –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ (—З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞) –Њ—В –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е (–∞—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е, —Н–≥–Њ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е) –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –Є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–є —А—Л–љ–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї, –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, –≥–і–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—Й–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ –≤ —Б–µ–±—П –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П, –≤—Л–њ–ї–∞—В—Г –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є –љ–∞ –і–µ—В–µ–є –Є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–µ ¬Ђ–Њ—В –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є –і–Њ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л¬ї. (48) –Т –§–†–У —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і—А.) –Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є (–±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л–Љ, –љ–∞ –і–µ—В–µ–є, –љ–∞ –Њ–±–Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–ї—М–µ–Љ –Є —В.–і.) –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–µ—В—М¬ї, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Г—О —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —А–Є—Б–Ї–Њ–≤ (49), –Ї–∞–Ї —Б–µ—В—М, –љ–∞—В—П–љ—Г—В–∞—П –њ–Њ–і –Ї–∞–љ–∞—В–Њ–Љ, —Б—В—А–∞—Е—Г–µ—В –Ї–∞–љ–∞—В–Њ—Е–Њ–і—Ж–∞.
¬Ђ–°–ґ–∞–≤—И–µ–µ—Б—П¬ї –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ–µ—А–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є —А—Л–љ–Ї–∞, –≤ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л—Е –±–ї–∞–≥ –Є —Г—Б–ї—Г–≥. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Є—В–Њ–ї–Њ–≥ –Ъ—Г—А—В –Ч–Њ–љ—В—Е–∞–є–Љ–µ—А –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ–µ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г–µ—В —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П ¬Ђ–і–Њ–±–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—Г—Б–∞, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ—Л¬ї. (50) –Я—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є —В–µ–њ–µ—А—М –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —В—А—Г–і—П—Й–Є–µ—Б—П ¬Ђ–і–µ–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є¬ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–њ–∞—А—В–Є–Ї—Г–ї—П—А–љ—Л—Е¬ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Ї–Њ–љ—Б–µ–љ—Б—Г—Б–∞. (51) –Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л —В—А–µ—Е—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В—Л, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –Є–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–≤—И–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. (52)
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–ґ–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1960-—Е –Є –≤ 1970-—Е –≥–≥. –≤—Л—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ вАУ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ—В —А–Њ—Б—В –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї—Б—П, –±–Њ—А—М–±–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–Њ—Б—В—А–Є–ї–∞—Б—М. –Я—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Є –≤—Б–µ –≥—А–Њ–Љ—З–µ —Б–µ—В–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї –љ–µ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞, –≤–µ–і–µ—В –Ї —А–Њ—Б—В—Г –Є–љ—Д–ї—П—Ж–Є–Є –Є –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞, –Њ—Б–ї–∞–±–ї—П–µ—В —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г –Є –µ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–Њ—Й—А—П–µ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ–Є–ґ–і–Є–≤–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї. (53) –Ш–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Њ–љ–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є, –±—Г–і—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –ґ–Є–≤–µ—В ¬Ђ–љ–µ –њ–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ¬ї –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—Г–Ј–Є—В—М —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –Є–≥—А–µ —А—Л–љ–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї. (54) ¬Ђ–Э–∞—И–∞ –љ—Л–љ–µ—И–љ—П—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞, вАУ —Б—Г–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—Б—В –Т–Њ–ї—М—Д—А–∞–Љ –≠–љ–≥–µ–ї—М—Б, –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –і–µ–ї–Њ–≤—Л—Е –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ ¬Ђ–Т–Є—А—В—И–∞—Д—В—Б–≤–Њ—Е–µ¬ї, вАУ –љ–µ —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞–µ—В –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Ю–љ–∞ —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В –µ–≥–Њ. –≠—В–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –µ–Љ—Г, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–µ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Л. –Ю–љ–∞ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–µ—В –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є –Є, –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, –і–∞–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞¬ї. (55) –£–ґ–µ –≤ 1970-—Е –≥–≥. –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —Б—В—А–∞–љ, —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М —Б —А–Њ—Б—В–Њ–Љ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–∞, –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –Ј–∞–Љ–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—О –Є–ї–Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ—Г–ґ–і—Л (–њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–∞¬ї).
–Э–Њ –µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–∞, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —А—Л–љ–Њ—З–љ–∞—П –љ–µ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є —Г–±—Л—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї, –∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М, —Б –Є—Е —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–є –Є–Љ–Є –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–Є ¬Ђ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—А–Њ–≥–∞¬ї, —В–Њ —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤ –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤, –Є—Е —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е. –Ю–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Є –≤ 1950-–µ вАУ 1960-–µ –≥–≥. –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л –Є –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є–Ї–Є, –њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–µ –Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–≤–ї–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Н–ї–Є—В—Л¬ї –Є–Ј –≤–µ—А—Е—Г—И–µ–Ї –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є, –Њ ¬Ђ—В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–µ¬ї –Є ¬Ђ–Њ–і–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ¬ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, ¬Ђ–Є–љ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є¬ї –Є —В.–і. (56)
(...)
–Т 1980-—Е –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ 1990-—Е –≥–≥. –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Љ–Є—А–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–љ–µ–Њ–ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї. –Т –µ–µ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–∞—П –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г, —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Є —В.–і. –Ч–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ–є –≤ —З–∞—Б—В–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –Є –±–∞–љ–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –і–Њ–њ—Г—Б–Ї —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—Д–µ—А—Г вАУ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Г, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —В.–і. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ—Г–ґ–і—Л, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Н–ї–Є—В—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞—В—М ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ¬ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј ¬Ђ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—О—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ ¬Ђ—А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г ¬Ђ—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞¬ї –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –≤ ¬Ђ–≥–ї–Њ–±–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ¬ї. –†–µ—З—М –Є–і–µ—В, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї (–≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є, –њ–µ–љ—Б–Є–є, –≤—Л–њ–ї–∞—В, —Б—Г–±—Б–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥ –Є –і—А., –њ—А–Њ–і–ї–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є—О) –њ–Њ–і —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤, ¬Ђ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є¬ї, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї—Г–≥, –њ–Њ–Њ—Й—А–µ–љ–Є—П —В—П–≥–Є –Ї —В—А—Г–і—Г –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є –Є –±–Њ—А—М–±—Л —Б ¬Ђ—Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В —А–∞–±–Њ—В—Л¬ї. (65) –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—П—В—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г.
–Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л. –Я–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –љ–Њ–≤–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, —А—Л–љ–Ї–Њ–Љ –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ: –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–µ—В —А–∞–љ–µ–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Є–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Д–µ—А—Л –Є —Г—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ —А—Л–љ–Ї—Г, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В —Н–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ—Г —Н—В–Є—Е —Б—Д–µ—А. –Я–µ—А–Є–њ–µ—В–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –љ–µ—В—А—Г–і–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ –Є —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–Љ. –Т XIX –≤. —Н—В—Г —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞: —Б–Њ—О–Ј—Л –Є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –Є —Б–Њ—Б–µ–і—Б–Ї–Њ–є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–Є –Ї–∞—Б—Б—Л, —Б–µ–Љ—М—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Њ–±—Й–Є–љ. –Т XX –≤. –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤–≤–µ–ї–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Њ–љ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–≤ –Є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є–µ–є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ XXI –≤–≤. –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л—Е —Д–Њ–љ–і–Њ–≤. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–µ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–∞ –Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Г—Б–ї—Г–≥–∞–Љ, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–∞—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ–ґ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О, –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –љ–Є—Е. –Ю—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —Г–ґ–µ –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —В–µ —Б—Д–µ—А—Л, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Г—Е–Њ–і–Є—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ.
–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–µ–Њ–ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –†–Є—З–∞—А–і–Њ–Љ –°–µ–љ–љ–µ—В—В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ ¬Ђ–Ї—А–∞—Е–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї. (66) –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Ч–Є–≥–Љ—Г–љ—В –С–∞—Г–Љ–∞–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї —Н—В–Њ ¬Ђ–∞–≥–Њ—А–∞—Д–Њ–±–Є–µ–є¬ї вАУ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Ї —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є, –њ–Є—И–µ—В –Њ–љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л, —Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Г –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є ¬Ђ–љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞, –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ—А–∞–Ј–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –Є –њ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ –Є–љ–Њ–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ вАУ –Є—Е –≤—А–µ–Љ—П–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї—Г—О –≤—Л–≥–Њ–і—Г...¬ї. (67)
–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞–Ј–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Є–і–µ–Є –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±—Л. ¬Ђ–Т –љ–∞—И–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –і–ї—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –±—Л –і—А—Г–≥–Є–Љ, –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ, —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–Љ, –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤ —Г—Е–Њ–і–µ. –Я—А–Є–Љ–µ—А –љ–µ–ї—М–Ј—П –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї, вАУ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –§–†–У –Ф–Є—В–µ—А –•–∞–Ї–Ї–ї–µ—А. (68)
–Т –Љ–µ–ґ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤–Њ–Ј–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—М ¬Ђ—Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–∞ вАУ —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Љ–∞¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–∞, –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Љ–∞—И–Є–љ–µ –Є –µ–µ —А–Є—В–Љ–∞–Љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ –љ–µ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞, —Ж–µ–ї–Є –Є —Е–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–Є, –љ–µ–≤–µ—А–Є–µ –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П —В—А—Г–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞–і –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞, —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–∞ –і–ї—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є –Ј–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є ¬Ђ—А–∞–±–Њ—З–µ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л¬ї —Б –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г.
–°–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ¬ї, ¬Ђ–∞—В–Њ–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ (–•.–Р—А–µ–љ–і—В) –Є –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–є –Є–Љ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ ¬Ђ–±–µ–≥—Б—В–≤–∞ –Њ—В —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л¬ї (–≠.–§—А–Њ–Љ–Љ). –†–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Є–і–µ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Н—В–∞—В–Є–Ј–Љ–∞, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е —В—П–≥—Г –ї—О–і–µ–є –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г ¬Ђ–њ—Б–µ–≤–і–Њ-—Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г¬ї.
–Ш –µ—Й–µ:
–Т–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ —А–Њ–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –≤ 20-—Е - 30-—Е –≥–≥. —Б—В–∞–ї–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–і–≤–Є–≥–Њ–≤. –Э–∞—З–∞–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–Њ–≤ –Є "—Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Њ-—В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є" —Д–Њ—А–Љ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї —А–µ–Ј–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Љ–µ—Б—В, –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Њ–±–љ–Є—Й–∞–љ–Є—О, –њ–∞–і–µ–љ–Є—О –њ–ї–∞—В–µ–ґ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–∞ –Є "–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А–Є–Ј–Є—Б—Г". –°–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б —Н—В–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ-—А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Т —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е "–∞—В–Њ–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ" –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Ј—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—А, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –±—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–Њ–µ —Ж–µ–ї–Њ–µ.
–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –љ–Њ—А–Љ—Л —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б—Д–µ—А—Л –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–Њ –Є –љ–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г - –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Б—Г–±—Б–Є–і–Є–є, –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Ж–µ–љ –Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–≤, –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞. –Ч–∞–Љ–µ–љ—П—П —Б–Њ–±–Њ–є "–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–µ —В–Њ–≤–∞—А–љ—Л–Љ–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є", –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ "–љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ —А–∞–Љ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –і–∞—О—В —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Њ–є"
–Ю—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ, –љ–∞—З–∞–≤—И–Є–є—Б—П –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ XIX –Є XX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є (–Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Н–љ–µ—А–≥–Є–Є, –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–≤ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Б–≥–Њ—А–∞–љ–Є—П), –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–Є –Є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е. –®–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–љ–љ–Њ–≤–∞—Ж–Є–є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —Б–і–≤–Є–≥–∞–Љ –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞—Е, –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —В—А—Г–і–∞ –Є –ґ–Є–Ј–љ–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –†–∞–±–Њ—З–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –≤ –≥–Њ–Љ–Њ–≥–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї–∞—Е –Є —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е, —З—В–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Я—А–Є —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А–Њ—Б—В–µ –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є—Б—М —Б—В–∞–≥–љ–∞—Ж–Є—П –Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —А–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–≤. –Ґ–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ –њ–Њ–і—А—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–≤—Л–Ї–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–∞–ї–µ–є, –Љ–∞—И–Є–љ –Є –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–є —А–∞–Ј–ї–∞–≥–∞–ї–Є —В—А—Г–і –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є, —З—В–Њ –≤–µ–ї–Њ –Ї –і–µ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е, –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є —Б–µ–±–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г—В—А–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М. –Э–Њ–≤—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞ (–њ—А—П–Љ–Њ–є –љ–∞–µ–Љ –≤—Б–µ—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–і–µ–ї—М—Й–Є–љ–∞, —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ—А–µ–Љ–Є–є, –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–≥–Њ —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –≤–љ—Г—В—А–Є—Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ–є –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є) –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П–Љ –Є –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—П –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї—Г –љ–∞ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Є –Є—Е —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П...
(–Т 20-–µ - 30-–µ –≥–Њ–і—Л)
–†–∞–±–Њ—В–∞ –Є –ґ–Є–Ј–љ—М —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ–Є. –°—В–∞—А—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є, –Њ–±—Й–Є–љ–љ–∞—П –Є —Б–Њ—Б–µ–і—Б–Ї–∞—П –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, —Г–љ–∞—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ—В —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —Б—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б—В–≤–Њ—А—П–ї–Є—Б—М –≤ –∞–љ–Њ–љ–Є–Љ–љ–Њ–Љ, –±–µ–Ј–ї–Є–Ї–Њ–Љ —Б–µ—А–Њ–Љ –Љ–∞—А–µ–≤–µ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤-—Б–њ—А—Г—В–Њ–≤, –≥–і–µ –њ–Њ–Љ—Л—Б–ї–Є –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М ¬Ђ–ґ–µ–ї—В—Л–Љ –і—М—П–≤–Њ–ї–Њ–Љ¬ї –љ–∞–ґ–Є–≤—Л. –Ъ —Г–ґ–∞—Б—Г —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Н—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–ї–Њ–Ї –љ–∞–Ј–≤–∞–ї ¬Ђ–≤—Б–µ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї—В–Њ–є –њ—Л–ї—М—О¬ї, –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—А–∞–±–Њ—Й–µ–љ–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Ь–∞—И–Є–љ–Њ–є. –Ґ–µ—Е–љ–Є–Ї–∞ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—А–µ–Ї–∞–ї–Є –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Л. –Ю–љ–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ вАУ –Є –њ—А–Є—В–Њ–Љ –Љ–Њ—Й–љ–µ–є—И–µ–µ –Є –Њ—В—Г–њ–ї—П—О—Й–µ–µ вАУ –Њ—А—Г–і–Є–µ —Г–≥–љ–µ—В–µ–љ–Є—П: —Б –µ–µ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є—В—М —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞–Љ –Є –≤–Ј—П—В—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –Ї–∞–ґ–і—Г—О –Љ–Є–љ—Г—В—Г –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–љ—П, –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В—М —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ —Б –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О, –±–µ–Ј –Њ—Б—В–∞—В–Ї–∞ –Њ—В–і–∞–≤–∞—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤—Г –Ї–∞–ґ–і—Л–є –ґ–µ—Б—В, –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ–Є–≥. –†–Є—В–Љ—Л —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Г–љ–Є—Б–Њ–љ —Б —В–∞–Ї—В–Њ–Љ –Ш–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ь–∞—И–Є–љ—Л.
–Э–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Њ–±–Њ—З–Є–љ—Г. ¬Ђ–Я—А–Є–і—П —Г—В—А–Њ–Љ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –Є —Б—В–∞–≤ —Г —Б—В–∞–љ–Ї–∞, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М —Г–≤–µ—А–µ–љ, вАУ –љ–µ –µ–≥–Њ –ї–Є –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, вАУ –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–ї –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –С—А—Г–љ–Њ –ѓ—Б–µ–љ—Б–Ї–Є–є —В—А—Г–і –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є. вАУ –І–µ—В—Л—А–µ—Б—В–∞ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л—Е –њ–∞—А –≥–ї–∞–Ј, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±–∞–Ї–Є –њ–Њ —Б–ї–µ–і—Г, –±–µ–ґ–∞–ї–Є –њ–Њ –њ—П—В–∞–Љ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≤ —А–∞–Ј–і—Г–Љ—М–µ, –њ—А–Њ—Е–∞–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є, –Є —Б—В–∞—А–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–±–µ–≥–∞–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—З–Є —Б –µ–≥–Њ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј—П—Й–Є–Љ –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–Љ. –І–µ—В—Л—А–µ—Б—В–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, —Б–≥–Њ—А–±–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞–і —Б—В–∞–љ–Ї–∞–Љ–Є, –±—Г–і—В–Њ –ґ–µ–ї–∞—П —Б—В–∞—В—М –µ—Й–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ, —Б–µ—А–µ–µ, –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–µ–µ, –≤ –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Њ—З–љ–Њ–є –њ–Њ–≥–Њ–љ–µ —А—Г–Ї –љ–∞–Љ–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є —Б–µ–Ї—Г–љ–і—Л –љ–∞ —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ—О —Б—В–∞–љ–Ї–Є, –Є –Ј–∞–њ–ї–µ—В–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –њ–∞–ї—М—Ж—Л –ї–µ–њ–µ—В–∞–ї–Є: ¬Ђ—П –±—Л—Б—В—А–µ–µ –≤—Б–µ—Е!¬ї, ¬Ђ–љ–µ —П –≤–µ–і—М! –љ–µ —П!¬ї.
–Э–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї вАУ –љ–µ –Љ–∞—И–Є–љ–∞. –°–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л –Є —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ —А–∞–Ј–і–µ–ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—А–Њ–≥–∞, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є —З—В–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –љ–µ–Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є —И–ї–Є –≤ ¬Ђ—Б–≤–Њ–є¬ї –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –±–∞—Б—В–Њ–≤–∞—В—М, –ї–Є–і–µ—А—Л, –ґ–Є–≤—И–Є–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—Д–≤–Ј–љ–Њ—Б—Л, –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є –Є—Е —А–∞—Б—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Њ–± –Њ–±—Й–µ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є –Є –љ–µ–і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є, –љ–µ —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ —А—П–і–Њ–≤—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є, –ї–Є–і–µ—А—Л ¬Ђ–Є—Е¬ї –њ–∞—А—В–Є–є –њ—А–Є–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Є—Е –њ–Њ–і–Њ–ґ–і–∞—В—М –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А, –њ–Њ–Ї–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В—Л –љ–µ –Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –њ–Њ–±–µ–і—Г –љ–∞ –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Б–Ї–Є—Е –≤—Л–±–Њ—А–∞—Е –Є –љ–µ –і–Њ–±—М—О—В—Б—П –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П —А–µ—Д–Њ—А–Љ, —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –≤–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є, –њ–µ–љ—Б–Є–є –Є –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–Њ–≤...
–Ъ–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б –Ь–Р–Ґ 1928
–У–ї–∞–≤–љ–Њ–є —В–µ–Љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б–∞ 1928 –≥. —Б—В–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–Њ–≤–µ–є—И–Є—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–і–≤–Є–≥–∞—Е, –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–Є —Д–Њ—А–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П. –≠—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ—Л –і–Њ–Ї–ї–∞–і—Л –†–Њ–Ї–Ї–µ—А–∞ –Њ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Ѓ–∞—А–∞ –Њ 6-—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–љ–µ.
–°–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –Ь–Р–Ґ –†–Њ–Ї–Ї–µ—А, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞—Е —В–µ–Њ—А–Є–Є, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –≤—Б–µ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Н—В–∞–њ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П —Б —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–і–≤–Є–≥–Њ–≤ –Є –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—П –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —В—А—Г–і–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Є–ї. –Ю–љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї, —З—В–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ –Њ–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –Њ—В –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ –Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—З–љ–µ–µ, —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–µ–µ, —З–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є –Є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Б—М ¬Ђ–Њ–±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П¬ї –Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ ¬Ђ–љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ—Г—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–љ—Г—О —З–∞—Б—В—М¬ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П, –њ–µ—А–µ—И–µ–ї –≤ –Ї–Њ–љ—В—А–∞—В–∞–Ї—Г. –≠—В–Њ –љ–µ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–љ—Л–Љ–Є —П–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ ¬Ђ—Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ—Л–є¬ї –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ ¬Ђ–Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є¬ї –Ї—А–Є–Ј–Є—Б, –∞ —Г—Б–Є–ї–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї—А–Є–Ј–Є—Б ¬Ђ–њ–µ—А–µ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М —А–∞–Ј—А—Л–≤–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–∞—Б—Б. –Т –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–µ —А–µ—И–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –Ј–∞ —Б—З–µ—В —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —А–µ–∞–≥–Є—А—Г—П –љ–∞ —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є –Є —Б–і–≤–Є–≥–Є –≤ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ (—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ—Й–Є –°–®–Р –≤ —Г—Й–µ—А–± –Х–≤—А–Њ–њ–µ, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —А–Њ–ї–Є ¬Ђ–њ—А–Њ–±—Г–ґ–і–∞—О—Й–µ–є—Б—П¬ї –Р–Ј–Є–Є –Є —В.–і.), –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ ¬Ђ–≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –љ–Њ–≤—Г—О —Д–∞–Ј—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–±—Й–µ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—О—Й–Є–Љ, —З–µ–Љ –≤—Б–µ –µ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ—Л –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ...¬ї.
–Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–Љ–∞—П —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є¬ї, –њ—А–Є—З–µ–Љ —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Ј–∞—Е–≤–∞—В–Є–ї –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–µ–љ –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—П ¬Ђ–љ–∞—Г—З–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞¬ї (—Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Ґ–µ–є–ї–Њ—А–∞) –Є —Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї —В—А–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є—П —Н—В–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є: ¬Ђ1) –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Ї–∞—А—В–µ–ї–µ–є –Є —В—А–µ—Б—В–Њ–≤ —Б —Ж–µ–ї—М—О —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є—П –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї—П—Е –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –µ–і–Є–љ—Л—Е —Ж–µ–љ. 2) –°–∞–Љ–∞—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Є–і—Г—Й–∞—П –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —В—А—Г–і–∞ —Б –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—А–µ–і—Б—В–≤. 3) –Я–ї–∞–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ —В–µ–ї–∞ –Є —А–∞–Ј—Г–Љ–∞ –Ї —А–Є—В–Љ—Г –Љ–∞—И–Є–љ—Л –Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–∞¬ї.
–Р–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і—П—Й–µ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Њ—В ¬Ђ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є¬ї –Ї ¬Ђ–Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П ¬Ђ—Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В—А–µ—Б—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Б—В—А–µ–Љ–Є—В—Б—П –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –ї—О–±–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞—В—М —Ж–µ–љ—Л¬ї. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ —Н—В–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —А–Њ—Б—В —Ж–µ–љ –Є –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –≤ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є–Є —Б –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Г—Б–Є–ї–µ–љ–Є–µ –±—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –ї–Њ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є –љ–∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї–µ–є, —А–Њ—Б—В –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —Б—В–∞–ї–∞ –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. ¬Ђ...–Ь–∞—И–Є–љ—Г –Є–Ј –њ–ї–Њ—В–Є –Є –Ї—А–Њ–≤–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–±—Г–і–Є—В—М –Ї –±–Њ–ї—М—И–µ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –ї–Є—И—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є —Б—А–Њ–Ї–Њ–≤ –µ–µ –Є—Б–њ—А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П..., вАУ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї –†–Њ–Ї–Ї–µ—А. вАУ –†–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї, –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –Ї –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Є –љ–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–є –ґ–µ—А—В–≤–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–љ–љ–Є–±–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–Њ–≤—Л–Љ –Љ–µ—В–Њ–і–∞–Љ, –±—Л—Б—В—А–µ–µ –Є–Ј–љ–∞—И–Є–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Є —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, —З–µ–Љ –њ—А–µ–ґ–і–µ, –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В –љ–∞ —Б–≤–∞–ї–Ї—Г¬ї.
–†–Њ–Ї–Ї–µ—А —А–∞–Ј–≤–Є–ї —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О –∞–љ–∞—А—Е–Њ-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ї—А–Є—В–Є–Ї—Г –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ј–Љ–∞ –Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–µ –Ї–∞–Ї –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–Љ —А–Њ—Б—В–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ, –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Є –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ –≤–µ–і—Г—Й–µ–Љ –Ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г. –Ю–љ —А–µ–Ј–Ї–Њ –Њ—В–≤–µ—А–≥ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤ –Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–Њ–≤—Л–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–і–≤–Є–≥–Є –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–∞—О—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–Є. ¬Ђ–Э–∞–Љ —Е–Њ—В—П—В –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, вАУ –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞–ї—Б—П –†–Њ–Ї–Ї–µ—А, вАУ —З—В–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –±—Г–і—Г—В —Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –і–ї—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞... –†–∞–Ј–≤–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –ґ–µ–ї—Г–і–Ї–∞, –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ —З–∞—Б—В–Њ –Є–Љ–µ–љ—Г—О—В?... –†–∞–Ј–≤–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є, —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –Ї—Г–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ –Є —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ, —З–µ–Љ –≤—Б–µ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–Њ—А–Љ—Л —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞?¬ї
–†–Њ–Ї–Ї–µ—А —Б–µ—В–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ ¬Ђ—Б–Є–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –≤ –њ–ї–µ–љ—Г –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є –Њ –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, —З—В–Њ –≤–Є–і–Є—В –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є ¬Ђ–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Є—Б—Б–Є—О¬ї –Є –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В ¬Ђ–≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї. ¬Ђ–Ы–Є—И—М —В–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ—П—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е —З—Г–і–Њ–≤–Є—Й–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ—Б—В–∞—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞–і–µ—О—В—Б—П —Г–≤–Є–і–µ—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –і–ї—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞...¬ї. –Ю–љ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ ¬Ђ–њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ–∞—П –Є –Њ–і–љ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ—П—П –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–Є —Б –і–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–Љ –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А—Г–і–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –≤ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В –љ–Є—З–µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –љ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –ї–Є—И—М –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л–є –Љ–µ—В–Њ–і —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –ї—О–і–µ–є, —П–≤–ї—П—О—Й–Є–є—Б—П —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –±–µ–Ј–і—Г—И–љ—Л–Љ, —Б–Ї–Њ–ї—М –Є –±–µ—Б—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ—Л–Љ. –Т —Н—В–Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і–∞—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≤ –ї—Г—З—И–µ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –≥—А—П–і—Г—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, —Е—Г–і—И–µ–є –Є–Ј —Д–Њ—А–Љ –ї—О–±–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є...¬ї[vi].
–°–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –†–Њ–Ї–Ї–µ—А–∞, вАУ —Н—В–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ –Є–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –∞ –љ–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞, –Є –≤–µ–і—Г—В –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є. –Ґ—А—Г–і—П—Й–Є–µ—Б—П –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –њ–Њ–љ—П—В—М, –њ–Є—Б–∞–ї –Њ–љ, ¬Ђ—З—В–Њ –њ—Г—В—М –Ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г –≤–µ–і–µ—В –љ–µ —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –і–ї—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –±–Њ–ї–µ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –Є –њ—А–Є—П—В–љ–Њ–є. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П¬ї.
¬Ђ–†–µ—З—М –Є–і–µ—В –љ–µ –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞—В—М –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–є —В—А—Г–і –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–≥–Њ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –љ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –і–Њ —А–Њ–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л¬ї, –µ—Б–ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В—Г –Ї–∞–Ї ¬Ђ—В—П–ґ–µ–ї—Г—О –њ–Њ–≤–Є–љ–љ–Њ—Б—В—М¬ї –Є ¬Ђ–љ–µ–≤—Л–љ–Њ—Б–Є–Љ–Њ–µ —А–∞–±—Б—В–≤–Њ¬ї, - –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–ї –Њ–љ. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–≤–µ—Б —Н—В–Њ–Љ—Г –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–є –§—Г—А—М–µ –Є–і–µ–µ ¬Ђ–њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —В—А—Г–і–∞¬ї, –Њ —В—А—Г–і–µ, –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Є —Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ, –Ї–∞–Ї –Њ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ю–љ —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–ї ¬Ђ–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О¬ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –њ–Њ –µ–≥–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О, –≤–µ–і–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞–±—Б—В–≤—Г: ¬Ђ–†–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П - —Н—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞—Б—Б—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ—А–µ–≤–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є –Є–Ј –њ–ї–Њ—В–Є –Є –Ї—А–Њ–≤–Є –Є –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є –Є–Ј —Б—В–∞–ї–Є –Є –ґ–µ–ї–µ–Ј–∞, –њ—А–Є–љ–Њ—Б—П—Й–Є—Е –і–Њ—Е–Њ–і—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є. –Ъ–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ—Л–є —В—А—Г–і –Є —Б–∞–Љ–Њ–µ —А–∞—Д–Є–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–Њ–≤ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ –≤ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Г—В—А–∞—В–Є–ї –≤—Б—П–Ї–Є–є —Б–Љ—Л—Б–ї –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–µ–Љ–Њ–є –Є–Љ —А–∞–±–Њ—В—Л –Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ–ї–∞—В–Є—В—М —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ–Љ –Є —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Ј–∞ —Б–∞–Љ—Г—О –Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є—О —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л —В—А—Г–і–∞ –Њ—В—Г–њ–ї—П—О—В —А–∞–Ј—Г–Љ –Є —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—О—В –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є; –Њ–љ–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ—А–Є—З–Є–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –і–µ–≥–µ–љ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—П—Й–Є—Е –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤...¬ї. –Ш–Ј –µ–≥–Њ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–ї –Љ—А–∞—З–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і-–њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ: ¬Ђ–Ъ–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ –≤ –µ–≥–Њ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –≤–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –≤—Б–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞—Б—Л...¬ї.
–Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Л –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –≤–љ–Њ–≤—М –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–Є, –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Ј–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –і–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞—А—Е–Њ-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є ¬Ђ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є–Ї–Њ–є¬ї –Ъ—А–Њ–њ–Њ—В–Ї–Є–љ–∞ - –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞: ¬Ђ–Э–µ—В, –љ–µ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–µ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–∞ –Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –∞ –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–∞, –і–µ—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–Є –Є —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞ –Є –≤—Б–µ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–µ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞..., вАУ —В–∞–Ї–Њ–≤–∞... –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ш —Н—В–Є–Љ —Г–ґ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Њ –љ–∞—И–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є¬ї, вАУ –њ–Њ–і—Л—В–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї –Њ–љ.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П –†–Њ–Ї–Ї–µ—А–∞, –љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А–∞–Љ–Є. –Ю–љ–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Є—Б—М –Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. ¬Ђ–†–µ–∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–µ¬ї, –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Г –Њ—В ¬Ђ—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї –Ї ¬Ђ–Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ—Г –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г –≤ —Д–Њ—А–Љ–µ —В—А–µ—Б—В–Њ–≤ –Є –Ї–∞—А—В–µ–ї–µ–є¬ї —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—П –Ь–Р–Ґ, –Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є, –Ї –Њ—В–Ї–∞–Ј—Г –Њ—В –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В—Б–Ї–Є—Е —А–µ–ґ–Є–Љ–Њ–≤ –Є –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і—Г –Ї –і–Є–Ї—В–∞—В—Г—А–∞–Љ, –±—Г–і—М —В–Њ –≤ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–Љ –Њ–±–ї–Є—З—М–µ.
–Ф–Њ–Ї–ї–∞–і—З–Є–Ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є —Д–∞—В–∞–ї–Є–Ј–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –љ–∞—Б—В—Г–њ–∞–ї–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —Д—А–Њ–љ—В—Г. ¬Ђ–°–µ–≥–Њ–і–љ—П, –≤ —Н–њ–Њ—Е—Г –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞, –њ–Њ–і –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞—А—В–µ–ї–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ—Г –Ї–ї–∞—Б—Б—Г –љ—Г–ґ–љ—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –і—Г—Е–∞ –Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –≤ –µ–≥–Њ –±–Њ—А—М–±–µ, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є —В–µ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ–љ –њ—А–Є–±–µ–≥–∞–ї —А–∞–љ—М—И–µ¬ї, - –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї –Њ–љ.
–Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ—Б—П —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞—В—М –љ–µ–њ—А–Є–Љ–Є—А–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ—Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–≤–Њ–Є—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ —Б –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞–Љ–Є ¬Ђ–Є—Е¬ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Ж–µ–ї–Є. –Я–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞—В—М –≤–ї–∞—Б—В–Є –Є –Є–Љ—Г—Й–Є–µ –Ї–ї–∞—Б—Б—Л ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–є¬ї —Б—В—А–∞–љ—Л –≤ –љ–∞–і–µ–ґ–і–µ –Є–Ј–≤–ї–µ—З—М –≤—Л–≥–Њ–і—Л –Є–Ј –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є ¬Ђ—Б–≤–Њ–µ–є¬ї –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Њ–±—А–µ—З–µ–љ–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ–≤–∞–ї, –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї –†–Њ–Ї–Ї–µ—А. –Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –±–µ—Б—Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ–Є, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л —Б –Є—Е —Г–њ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–∞ –њ–∞—А–ї–∞–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Ј–Љ, –њ–∞—А—В–Є–є–љ—Г—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ–Њ–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ, —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –∞—А–±–Є—В—А–∞–ґ –Є —В.–і. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –ї–Є—И—М —Б–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ —А—Г–Ї–Є, –љ–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є–Љ –љ–µ–≤—Л–≥–Њ–і–љ—Л–µ —А–µ—И–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В–і–∞–ї—П–µ—В –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ. –Ф–∞–ї–µ–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ, —З–∞—Б—В–Є—З–љ—Л–µ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ —Б—В–∞—З–Ї–Є, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞–Љ–Ї–∞–Љ–Є –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–Є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤ —В—А–∞–љ—Б–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—А—В–µ–ї–Є, –ї–µ–≥–Ї–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В —Б–Њ—А–≤–∞—В—М –±–Њ—А—М–±—Г, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–∞–±–Њ—З—Г—О —Б–Є–ї—Г –≤ –Є–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞—Е. –Ю—В—Б—О–і–∞ –≤—Л—В–µ–Ї–∞–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П. –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—П –Є—Е —А–∞—Б–Ї–Њ–ї–∞ –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Ї–∞—Б—В—Л –Є –Ї–∞—В–µ–≥–Њ—А–Є–Є, –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–Є ¬Ђ—А–∞–±–Њ—З–Є—Е —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞¬ї вАУ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Њ–≤, —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е –Є —В.–і. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ—А—Л, –Њ–љ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї –±–Њ—А—М–±—Г –Ј–∞ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, —В–∞–Ї —З—В–Њ–±—Л –µ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є –≤—Б–µ.
–Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –Ї–ї—О—З–µ, —З—В–Њ –Є –і–Њ–Ї–ї–∞–і –†–Њ–Ї–Ї–µ—А–∞, –±—Л–ї–Њ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ѓ–∞—А–∞. ¬Ђ–†–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞–µ—В —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ —Б–≤–Њ–Є—Е —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є –і–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–≥–Њ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –≤ —Г—Й–µ—А–± –µ–≥–Њ —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П–Љ..., вАУ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї –Њ–љ - –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ–∞–≥—Г–±–љ–∞ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞¬ї, —А–∞–Ј—А—Г—И–∞–µ—В –µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М[xii]. –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –≤ –µ–≥–Њ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –±—Л–ї–Њ —Г–і–µ–ї–µ–љ–Њ –Ј–∞–і–∞—З–∞–Љ –Є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞–Љ –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ 6-—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –і–љ—П –Ї–∞–Ї —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ —Б–Љ—П–≥—З–Є—В—М –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж—Л.
(–Ъ–Њ–љ–≥—А–µ—Б—Б 1931)
–†–Њ–Ї–Ї–µ—А –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї вАУ —Н—В–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–µ–Љ–љ—Л–є —А–∞–±, –µ–Љ—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—В–∞—В—М –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї —В–∞–Ї–Њ–≤–Њ–є, –Њ–љ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–µ—А–µ–≥ –Њ—В –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥–Њ–≤ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. ¬Ђ–Я–Њ—А—З–∞ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ –њ–Є—В–∞–љ–Є—П –Є —Е–∞–ї—В—Г—А–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П вАУ —Н—В–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ..., вАУ –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї –Њ–љ. вАУ –Ф–∞–ґ–µ –Њ–і–Є–љ —З–∞—Б –±–µ—Б—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ–є –Є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –і–µ–љ—М –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤ –Є–і–Є–Њ—В–∞. –Я—А–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є... –Т–Њ–њ—А–Њ—Б —Б—В–Њ–Є—В —В–∞–Ї: —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ¬ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї ¬Ђ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –≤ —Ж–µ–љ—В—А –љ–∞—И–Є—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є¬ї. –†–Њ–Ї–Ї–µ—А –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ ¬Ђ–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є¬ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М –Є–Љ. –Ю–љ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї: ¬Ђ–Х—Б–ї–Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–∞ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В—Б—П –≤ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –µ—Й–µ 50 –ї–µ—В, –ї—О–±–∞—П –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–µ—В¬ї.
–Р–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ –Ї–∞–Ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ вАУ –Ї–∞–Ї –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–∞—П —Д–Њ—А–Љ–∞ –∞–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ–∞ —Б—В–∞–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –∞–љ—В–Є–∞–≤—В–Њ—А–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А—Л–ї–∞ –Я–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –Ш–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї–∞ –С–∞–Ї—Г–љ–Є–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ—А–∞—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ю–љ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –Є –Њ–±—А–µ–ї —Б–Є–ї—Г –љ–∞ –Є–Ј–ї–Њ–Љ–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ вАУ –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П –•–• –≤–µ–Ї–∞. –Т —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞–≤—И–Є—Е ¬Ђ—Ж–µ–љ—В—А¬ї –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–Љ—Г –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г, –∞ –љ–∞ ¬Ђ–њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є¬ї –Є ¬Ђ–њ–Њ–ї—Г–њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є¬ї –µ—Й–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–∞—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. –°—В—А–µ–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П, –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–∞—П –Є—Е –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є—П –Є –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є, –Ј–∞—З–∞—Б—В—Г—О –≤ —В—П–ґ–µ–ї—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е. –С—Л–≤—И–Є–µ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–Є –Њ—В—А—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–є, –≤–µ–Ї–∞–Љ–Є —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є—Б—П —Б—А–µ–і—Л, –∞ –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ-—А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є —Б—В—А–∞–і–∞–ї–Є –Њ—В –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–Ј–Ї–Њ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –і–µ–Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞. –°–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –ї—О–і–µ–є —В—П–ґ–µ–ї–Њ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є –∞—В–Њ–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–≤—И–µ–Љ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ¬ї.
–†–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ, –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ, –Ї–∞–Ї —Б–Є–ї–∞, –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥ –Ь–∞—А–Ї–Њ –†–µ–≤–µ–ї–ї–Є, –Њ–љ–Њ –Є ¬Ђ—Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Н—В–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –≤—Л–≥–ї—П–і–µ—В—М –њ–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ–Љ—Г, –±–Њ–ї–µ–µ (–Ї–∞–Ї –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ —Б –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –ї—Г–і–і–Є—В–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—О —Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л) –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ (–≤ –≤–Є–і–µ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –≤–Ј—П–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Б–µ–±—П —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л). –Э–Њ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Н—В–Њ ¬Ђ—А–∞–љ–љ–µ–µ¬ї –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Њ–њ–Є—А–∞–ї–Њ—Б—М –љ–∞ –µ—Й–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–Є–є—Б—П –Њ—В –і–Њ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е, —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Њ-—Ж–µ—Е–Њ–≤—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ –і—Г—Е –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –Њ–±—Й–Є–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–ї —Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є–Ј–Љ—Г. –†–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В—А—Г–і–∞ –µ—Й–µ –љ–µ –і–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –і–Њ —В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є, –Є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ—Б—П, —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–≤—И–Є–Љ —Б–µ–±–µ —Б–≤–Њ—О —А–∞–±–Њ—В—Г, –µ–µ —Е–Њ–і –Є —Ж–µ–ї–Є, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Љ—Л—Б–ї—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Б–∞–Љ–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є –µ—Й–µ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Д–µ—А–∞ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞–Љ–Є –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ–Є –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П (–∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є—П–Љ–Є, —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–∞–Љ–Є, ¬Ђ–±–Є—А–ґ–∞–Љ–Є —В—А—Г–і–∞¬ї –Є —В.–і.), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –і–ї—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Л. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–ї–Њ–ґ–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ –Є –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ.
–Т –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–∞–ї–Є—П—Е —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Њ—Б—М —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–ї—П —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–µ—З–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є вАУ –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ вАУ –Ј–∞ —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ, –і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ –Є–ї–Є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л. –•–Њ—В—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –Є –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–Њ–≤ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –±—Л–ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л –Њ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ-–њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –Љ–Є—Д–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–є, –≤—Б–µ –ґ–µ –Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В –±—Л–ї –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ –љ–∞ —А–∞–Ј—А—Л–≤ —Б —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ—Г –µ–µ –љ–Њ–≤—Л–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–є –њ—Г—В–µ–Љ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є—П, ¬Ђ—Б–љ–Є–Ј—Г –≤–≤–µ—А—Е¬ї.
–≠—В–Є –≤–Ј–≥–ї—П–і—Л –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–ї–Є –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П–Љ–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –Љ–∞—Б—Б—Л. –Р–Љ–µ—А–Є–Ї–∞–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Ь—О—А—А–µ–є –С—Г–Ї—З–Є–љ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ —З–µ—А—В—Л —Н—В–Њ–≥–Њ ¬Ђ–њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї —Н–њ–Њ—Е–Є –і–Њ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л: ¬Ђ–° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –Є–Ј –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–љ—Л—Е —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –≤–Њ –≤–Ј—А—Л–≤–љ—Л–µ –≥–Њ–і—Л –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є. –° –і—А—Г–≥–Њ–є, –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –љ–∞ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ вАУ –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –≤—Б–µ—Е —В–µ–Њ—А–Є–є вАУ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–Ј —Б–µ–ї –Є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б—В–≤–∞... –Ґ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є –і–Њ–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л —Б –Є—Е —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —Б –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є —А–Є—В–Љ–∞–Љ–Є –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–µ–љ—Л –≤ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –Є–Љ–µ–µ—В —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –і–ї—П –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є—Е –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞... –≠—В–∞ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–і–Њ–њ–ї–µ–Ї–∞ –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–Њ–ґ–љ—Г—О –Љ–Њ–Ј–∞–Є–Ї—Г –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤, —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Є —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –і–Њ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ј–∞–ґ–Є–≥–∞–ї–∞ –≤ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞—Е –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞—Е... –љ–µ—Г–≥–∞—Б–Є–Љ—Л–є, –њ–Њ—З—В–Є –∞–њ–Њ–Ї–∞–ї–Є–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М... –Я—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В –Ї–Њ–љ—Ж–∞ –•I–• вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –•–• –≤–≤. –±—Л–ї —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б–Њ–±—Л–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –≠—В–Є –ї—О–і–Є –±—Л–ї–Є –і–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є [–љ–µ –ї—О–Љ–њ–µ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—О—Й–Є–Љ–Є —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –љ–µ—З—В–Њ —З—Г–ґ–і–Њ–µ, ¬Ђ–Є–љ–Њ–µ¬ї, вАУ –Т.–Ф.] –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—О, —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ–є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П; –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ—Л —Г—В—А–∞—В–Њ–є —Б–≤–Њ–µ–є –∞–≤—В–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Є –Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Г—В–µ—А—П–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞, –ї—О–±–≤–Є –Ї –Ј–µ–Љ–ї–µ –Є –Њ–±—Й–Є–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є. –Ю—В—Б—О–і–∞ —И–µ–ї —Б–Є–ї—М–љ—Л–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –і—Г—Е, –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є¬ї.
–Ь—Л –њ—А–Њ—Б–ї–µ–і–Є–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≤ –Љ–Є—А–µ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ –•–• –≤–µ–Ї–∞ –Є –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤—Л–≤–Њ–і –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–µ–ї—М–Ј—П —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–ї–Є–±–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –Ї–∞–Ї —Н–Ї—Б—В—А–∞–≤–∞–≥–∞–љ—В–љ—Л–µ –≤—Л—Е–Њ–і–Ї–Є ¬Ђ—Н–Ї—Б—В—А–µ–Љ–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї¬ї –Є–ї–Є –≤—Л–і—Г–Љ–Ї–Є —Б–∞–ї–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї–Њ–≤. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б –њ—А–Њ—З–љ—Л–Љ–Є –Є –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–Љ–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ—А–љ—П–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Г–≤–ї–µ—З—М —Б–Њ—В–љ–Є —В—Л—Б—П—З –Є–ї–Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ—Л –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –Є –љ–∞–ї–Њ–ґ–Є—В—М –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —А–µ—И–∞—О—Й–Є–є –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–Њ–Ї –љ–∞ —Е–Њ–і –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В—Л). –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –Њ–љ–Њ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г—В—М —А—Г–ї—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤ —Б–≤–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є —В–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—И–Є–±–Ї–Є —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —В–µ–Њ—А–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ—П—Б–љ–Њ—Б—В—М –Є –љ–µ—А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, –Њ—Б—В—А–Њ–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–Њ –≤ –µ–≥–Њ —А—П–і–∞—Е —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є —Б–≤–Њ—О —А–Њ–ї—М. –Э–Њ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –±—Л–ї–Њ –љ–µ –≤ —Н—В–Њ–Љ. –І—В–Њ-—В–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ вАУ –±—Л—Б—В—А–Њ, —З–∞—Б—В–Њ –і–∞–ґ–µ –љ–µ—Г–ї–Њ–≤–Є–Љ–Њ –Є –љ–µ–Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –і–ї—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–±—Л—В–Є–є.
–Я–Њ –Љ–µ—А–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—Б–љ–Њ–≤ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –љ–∞—А–∞—Б—В–∞—В—М —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–µ –±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Љ–∞—Б—Б –≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г. –°—О–і–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ —Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ-–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, —А–∞–Ј–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ –Ї–Њ—Б—В—П–Ї–∞ –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е ¬Ђ—А–∞–±–Њ—З–Є—Е-—А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤¬ї –Ј–∞ —Б—З–µ—В –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–ї–Њ–µ–≤ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Љ–µ–љ—М—И–µ –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А—Г—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ.
–Ы–Є—И—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є –≥—А–Њ–Ј–Є–≤—И—Г—О –Є—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –≤–Є–і–љ—Л–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є —Б–µ–Ї—А–µ—В–∞—А—М –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ш–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–∞ –†—Г–і–Њ–ї—М—Д –†–Њ–Ї–Ї–µ—А, —Г–ґ–µ –≤ 1931 –≥. –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–≤—И–Є–є –Њ –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –≤–ї–Є—П–љ–Є–Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є–є —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, –љ–∞—З–∞–≤—И–∞—П—Б—П —Б 1920-—Е –≥–≥. –Є –±—Г—А–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–≤—И–∞—П—Б—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б—В–∞–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ—Л—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є —А–∞–Ј–і—А–Њ–±–ї–µ–љ–Є—О —В—А—Г–і–∞ –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є—З–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є. –Э–Њ–≤—Л–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —В–Є–њ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ¬ї –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї —Б–Љ—Л—Б–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є –љ–µ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Њ —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ –љ–∞–і –љ–Є–Љ. –Ю—Б—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–∞ —Б–Љ–µ—Б—В–Є–ї–∞—Б—М –Є–Ј —Б—Д–µ—А—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б –µ–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –≤ —Б—Д–µ—А—Г —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–±–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞ –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї—Б—П —Г–њ–∞–і–Њ–Ї —В–µ—Е —В–µ—З–µ–љ–Є–є –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–∞ –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Є –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –±–Њ—А—М–±—Г –Ј–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –љ–∞–і –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ. –Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –≤ —Н—В–Њ–є —Б–≤—П–Ј–Є –С—Г–Ї—З–Є–љ, ¬Ђ—А–µ–Ј–Ї–Њ –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤, –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞, –љ–∞—Б–ї–µ–і–Є–µ –Є —Ж–µ–ї—М –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–∞... –†–∞–±–Њ—З–Є–є –Ї–ї–∞—Б—Б –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –∞ –љ–µ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В—Л –Є –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л¬ї.
(...)
–Т –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ–≤—Г–ї—М—Б–Є—П—Е –і–≤—Г—Е –Љ–Є—А–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–є–љ, –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–є –Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є 1920-—ЕвАУ1930-—Е –≥–≥. (–њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–і–Њ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ш—Б–њ–∞–љ—Б–Ї—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—О), –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞—Е –Є ¬Ђ—Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Њ-—В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ—А–Њ—В–µ¬ї —А–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ¬ї, –≤–Ј—П–≤—И–µ–µ –љ–∞ —Б–µ–±—П —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Д–µ—А. –Т—В–Њ—А–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞, –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ, –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—О –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, –Є–±–Њ –≤–Њ–є–љ–∞ —Б —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –і–µ—А–ґ–∞–≤–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–∞—Б—М –≤–Њ –Є–Љ—П –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–∞ –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–і–µ–ї–Є ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї. –Ъ–µ–є–љ—Б–Є–∞–љ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–ї–∞—В–µ–ґ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–∞ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —А–Њ—Б—В—Г –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, –Є—Е –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞–Љ –љ–∞ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Є—Е —А–∞—Б—В—Г—Й–Є—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—В—П–Ј–∞–љ–Є–є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–Є ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Б—В–≤–∞¬ї.
–Я—Л—В–∞—П—Б—М –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥–ї–Њ –њ–Њ—З—В–Є –Є—Б—З–µ–Ј–љ—Г—В—М –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, ¬Ђ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–µ–Ї–∞ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –ї—О–±–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –±–Њ—А—М–±—Л¬ї –Є –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і—З–∞—Б –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–µ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–є —Б—А–µ–і–µ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –∞—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ–∞ –Ю—Б–≤–∞–ї—М–і–Њ –С–∞–є–µ—А –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–Р–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г –±–µ–і–љ—П–Ї–Њ–≤, —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –∞—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —П–≤–ї—П–ї–Њ –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—В–Њ—А–Њ–≤ –Є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л—Е –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е –љ—О–∞–љ—Б–Њ–≤, –∞ –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –њ—А–∞–≤ —В—А—Г–і—П—Й–Є–µ—Б—П –±—Л–ї–Є –Њ—В–і–∞–љ—Л –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї –≤—Б–µ–Љ–Њ–≥—Г—Й–µ–≥–Њ –љ–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П. –Э–Њ —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –Ї —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї—А–Њ—Е, —З—В–Њ–±—Л —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –љ–µ —А—Г—Е–љ—Г–ї–∞, —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –±—Л–ї–Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –Є —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—Л, —Б —В–µ—Е –њ–Њ—А, –Ї–∞–Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –≤–µ—А–љ—Л–є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞, –љ–∞—З–∞–ї–Њ –≤–µ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А—Л —Б –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—П–Љ–Є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П, –∞–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ —Г–ґ–µ –љ–µ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї –њ–Њ–і–Њ–±–∞—О—Й–µ–≥–Њ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–∞. –Ю–љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї —Б–≤–Њ—О –љ–µ–Ј–∞–њ—П—В–љ–∞–љ–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О: –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є–є. –Э–Њ –Њ–љ –љ–∞—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ–Њ—Б—В—М¬ї. –°–≤–Њ—О —А–Њ–ї—М —Б—Л–≥—А–∞–ї–Є –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –Є–ї–ї—О–Ј–Є–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ–Њ–Љ –Є ¬Ђ—А–Њ–і–Є–љ–Њ–є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞¬ї вАУ –°–°–°–†: —Н–є—Д–Њ—А–Є—П, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–≤—И–∞—П –Ј–∞ –†—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–µ–є, ¬Ђ–≤—Л–±–Є–ї–∞ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –Є–Ј —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є—П¬ї –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Г—Б—В–∞–≤—И–Є–µ –Њ—В –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Г–њ–Њ—А–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л –∞–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Л ¬Ђ–±—Л–ї–Є —Б–Њ–±–ї–∞–Ј–љ–µ–љ—Л –±–Њ–ї–µ–µ –ї–µ–≥–Ї–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –њ—Г—В–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ–≤–Є–Ј–Љ–∞¬ї.
–Ъ–∞–Ї –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ, –љ–Њ–≤—Л–µ —А–µ–∞–ї–Є–Є, –Ї–∞–Ї –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П–Љ ¬Ђ—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–ґ–і–∞—П –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Љ–µ—В—М –і–ї—П –љ–Є—Е –≥–Є–±–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П. –Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ: 1) –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –њ—А–Є–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤ вАУ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Њ–љ–Њ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ–є –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є; 2) –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ї—Г—А—Б –Є –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Є—В—М—Б—П –Ї –љ–Њ–≤—Л–Љ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ вАУ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –µ–Љ—Г –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –Њ—В —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–≤; 3) –µ—Б–ї–Є –Њ–±–µ —Н—В–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–њ–∞–і–∞–ї–Є вАУ —Б–∞–Љ–Њ—А–∞—Б–њ—Г—Б—В–Є—В—М—Б—П –Є–ї–Є, —З—В–Њ —В–Њ –ґ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ, –≤–Њ–є—В–Є –≤ –љ–µ—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј¬ї.
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л XX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П —А–∞–±–Њ—З–∞—П –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞ —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –љ–Њ –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–∞ —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Г —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–Љ—Г —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ—Г, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ ¬Ђ–њ—А–µ–і–≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ¬ї –Є–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞. –Ґ–∞–Љ, –≥–і–µ –Њ–љ–∞ –њ–Њ —В–µ–Љ –Є–ї–Є –Є–љ—Л–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –±—Л–ї–∞ –Љ–µ–љ–µ–µ –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–∞ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Ї –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –≤ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—В—А-–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–ї–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є. –Ґ–∞–Ї, –і–∞–ґ–µ –≤ –Љ–µ–ґ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –§–Є–љ–ї—П–љ–і–Є–Є, –≥–і–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–і –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–µ–Љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Г–Љ–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Њ–≤, –љ–Њ –љ–∞–і —В—А—Г–і—П—Й–Є–Љ–Є—Б—П –і–Њ–≤–ї–µ–ї–Њ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ 1918 –≥., —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ ¬Ђ–Њ—В–і–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ—В –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є –Є –≤—Б–µ –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–∞—П —Б–µ—В—М –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –Т 1920-—Е –≥–Њ–і–∞—Е —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ —Б–≤–Њ–Є –њ–∞—А—В–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –њ—М–µ—Б—Л, —З–Є—В–∞–ї–Є –Ї–љ–Є–≥–Є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Њ–є, –њ–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —В–Њ–≤–∞—А—Л –Є –і–µ–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –і–µ–љ—М–≥–Є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П—Е¬ї, вАУ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї —Д–Є–љ—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥ –†–Є—Б—В–Њ –Р–ї–∞–њ—Г—А–Њ. (33)
–Х—Й–µ —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ —Н—В–∞ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–∞ –≤ —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ –Є –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є. –Ш–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –Љ–Є—А–∞ (–Ш–†–Ь) –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ –°–®–Р –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ XX –≤. –Њ–±—К–µ–і–Є–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —З–ї–µ–љ–Њ–≤ (–њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Є–Љ–Љ–Є–≥—А–∞–љ—В–Њ–≤, –љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є) –≤ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–µ–ґ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є вАУ ¬Ђ–ї–Њ–Ї–∞–ї—Л¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. ¬Ђ–°–Њ–µ–і–Є–љ—П—П –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї—Г, –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л –Ш–†–Ь —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, —Б–Њ—З–Є–љ—П–ї–Є –њ–Њ—Н–Љ—Л, –њ–µ—Б–љ–Є, —А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї–Є¬ї, –њ—Л—В–∞—П—Б—М ¬Ђ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Љ–Є—А —Б —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞¬ї –Є ¬Ђ—Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –±–Њ–≥–∞—В—Г—О –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Є —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є—П¬ї. (34)
–Т –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є –Є–ї–Є –Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ–µ –і–µ—В–Є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ –ї–Є–±–µ—А—В–∞—А–љ—Л—Е —И–Ї–Њ–ї–∞—Е; –љ–∞—З–∞–≤ —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М вАУ –≤—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –≤ –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є–є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј; –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е —Ж–µ–љ—В—А–∞—Е, —Ж–µ–љ—В—А–∞—Е —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –±–Є–±–ї–Є–Њ—В–µ–Ї–∞—Е, –љ–∞ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П—Е –Є–ї–Є –≤ –Ї–∞—Д–µ, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –Є—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ; –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ–Є-—А–∞–±–Њ—З–Є–Љ–Є –Ј–∞–Ї—Г–њ–∞–ї–Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л –њ–Є—В–∞–љ–Є—П –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ–Є –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М —Б –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–Њ–Љ –і–Њ–Љ–Њ–≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ –Є–ї–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞–Љ–Є –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј –Ї–≤–∞—А—В–Є—А. –Я—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –Є–Љ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є, –і–Њ–±–Є–≤–∞—П—Б—М —В—А—Г–і–Њ—Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж—Л.
–Т —Б–ї—Г—З–∞–µ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ—Л–µ –∞–Ї—Ж–Є–Є –љ–µ–њ–Њ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –Р–±–µ–ї—М –Я–∞—Б —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В ¬Ђ—Б–µ—В–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є¬ї —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –С–∞—А—Б–µ–ї–Њ–љ–µ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ 1930-—Е –≥–≥.: ¬Ђ–С–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –љ–µ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤–∞—П вАУ –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –±—Л –Ш—Б–њ–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –µ–µ –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М, –∞ –Њ–љ–Њ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ вАУ –±—Л–ї–∞ –±—Л –і–∞–ґ–µ –љ–µ–ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б–љ–Є–ґ–∞–ї–∞ –±—Л –±–Њ–µ–≤—Г—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г –Є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–∞вА¶ –Я–µ—А–≤–Њ–є –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Љ–µ—А–Њ–є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–љ–Њ–є –ї–µ—В–Њ–Љ 1933 –≥., —Б—В–∞–ї–∞ —Б—В–∞—З–Ї–∞, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –ґ–Є—В–µ–ї–Є –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ–ї–∞—В–Є—В—М –Ј–∞ –ґ–Є–ї—М–µ, –≥–∞–Ј –Є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ. –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Э–Ъ–Ґ –Є –§–µ–і–µ—А–∞—Ж–Є–Є –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–Њ–≤ –Ш–±–µ—А–Є–Є –≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Н—В—Г —Б—В–∞—З–Ї—Г —Б 1931 –≥. –Э–∞—З–∞–ї–Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –і–Њ–Љ–Њ–≤—Л–µ, —Г–ї–Є—З–љ—Л–µ –Є –Ї–≤–∞—А—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Л. –Ю–љ–Є —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞–Љ –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є—ПвА¶ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤. –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –љ–∞–≥–Њ—В–Њ–≤–µ –±—Л–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Л –Є –і–µ—В–Є: —В–∞–Љ, –≥–і–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤—Л—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–љ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є –Є –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—В—М —Б—К–µ–Љ—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј –Є—Е –Ї–≤–∞—А—В–Є—А.
–≠—В–Є –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –і–µ—В—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В—Л –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Б –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–≤—Л—Е –њ–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –≤ –њ—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–∞–≥–∞–Ј–Є–љ—Л –Є ¬Ђ–њ–Њ–Ї—Г–њ–Њ–Ї –≤–Ј–∞–є–Љ—Л¬ївА¶ –Я–Њ–Ї—Г–њ–∞–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В—Л, –Ї–∞–Ї –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—М, –Љ–∞–Ї–∞—А–Њ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–і–µ–ї–Є—П, –Љ–∞—Б–ї–Њ, —А–Є—Б, –±–Њ–±—Л –Є —В.–і. –Є –Њ–±–µ—Й–∞–ї–Є –≤–µ—А–љ—Г—В—М –і–Њ–ї–≥ вАУ –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–є–і—Г—В —А–∞–±–Њ—В—ГвА¶
–Т –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –±–Є—А–ґ–Є —В—А—Г–і–∞вА¶ –С–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л–Љ —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–µ—Б—В–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ј–∞–љ—П—В—М. –Я—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–Є –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ –љ—Г–ґ–і–∞—О—В—Б—П –≤ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞—Е, –Є –≤—Л–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї–Є –Є—Й—Г—Й–Є—Е —А–∞–±–Њ—В—Г —Б —Д–∞–±—А–Є–Ї. –Э–Њ –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л–µ —Б–∞–і–Є–ї–Є—Б—М —Г –≤–Њ—А–Њ—В —Д–Є—А–Љ –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є —В–∞–Љ —Ж–µ–ї—Г—О –љ–µ–і–µ–ї—О, –њ–Њ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М —З–∞—Б–Њ–≤ –≤ –і–µ–љ—М. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ —Б—Г–±–±–Њ—В—Г –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В–∞, –Њ–љ–Є –≤—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і—М —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Є –њ—А–Є –Є—Е –Ј–∞—Й–Є—В–µ –і–Њ–±–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤—Л–њ–ї–∞—В—Л –Є–Љ –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л –Ј–∞ –Є—Е ¬Ђ—Б–Є–і—П—З—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г¬ї. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, –±—Г—А–ґ—Г–∞ —Г–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є –Є–Љ –Є—Е –µ–ґ–µ–љ–µ–і–µ–ї—М–љ—Л–є –Њ–Ї–ї–∞–і –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л —В–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–і–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞. –Ґ–∞–Ї –Њ–љ–Њ –Є –±—Л–ї–Њ вАУ –≤ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є —А–∞–Ј –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ–љ–Є, –∞ –і—А—Г–≥–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ.
–Я–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї—М–љ–Њ —Б —Н—В–Њ–є –±–Њ—А—М–±–Њ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –∞–Ї—Ж–Є—О ¬Ђ–њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е¬ї. –Ю–љ –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –≥—А—Г–њ–њ–∞–Љ–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—В—М—Б—П –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ—Л –Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–±–µ–і–∞—В—М —В–∞–Љ –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–ЊвА¶
–Ю–±—Й–µ–є —Ж–µ–ї—М—О –≤—Б–µ—Е —Н—В–Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –±—Л–ї–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–∞—П –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–∞—П –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Љ–∞—Б—Б –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –≤—Б–µ–Њ–±—Й–µ–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є¬ї. (35) –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Л –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є –Ј–∞–і–∞—З—Г –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П (—Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ–Љ–Њ–є —П–≤–Њ—З–љ—Л–Љ –њ–Њ—А—П–і–Ї–Њ–Љ), –љ–Њ –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. ¬Ђ–Ґ–Њ–ї—М–Ї–ЊвА¶ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П —Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В—М –≤ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ, –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –±—Г—А–ґ—Г–∞–Ј–љ–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–і—В–Є –Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О –љ–µ—А–∞–Ј—А—Г—И–Є–Љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤ –∞–љ—В–Є–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є –∞–љ—В–Є–Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–ЄвА¶, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В —А–µ–ґ–Є–Љ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–Є –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л—Е, –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –Є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е —В—А–µ—Б—В–Њ–≤¬ї, вАУ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї –∞—А–≥–µ–љ—В–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –§–Ю–†–Р –≠–Љ–Є–ї–Є–Њ –Ы–Њ–њ–µ—Б –Р—А–∞–љ–≥–Њ. (36) –Т —Е–Њ–і–µ –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Њ–Ї, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј—Г–µ–Љ—Л—Е –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–∞–Љ–Є –Є —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В–∞–Љ–Є, –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –≤—Л–і–≤–Є–≥–∞–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–Є—Б—В–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –љ–Њ –Є –±–Њ–ї–µ–µ ¬Ђ—И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ¬ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞—З–Ї–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –њ–µ–Ї–∞—А–µ–љ –≤ –С–∞—А—Б–µ–ї–Њ–љ–µ –≤ 1923 –≥. –±–∞—Б—В—Г—О—Й–Є–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞—А–њ–ї–∞—В—Л, –∞ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ —Е–ї–µ–±–∞. (37)
–Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –∞–љ–∞—А—Е–Њ-—Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Њ —Б–µ–±—П –Ї–∞–Ї –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—П –љ–Њ–≤–Њ–є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Ї–∞—А–і–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Њ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є, –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–љ–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —В–∞–Ї–Є—Е —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л—Е —З–µ—А—В, –Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ –Є –Є–Ї–Њ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є, –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –Є –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–љ—Л—Е —А–Є—В—Г–∞–ї–Њ–≤, –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –њ–µ—Б–µ–љ, –Љ–Є—Д–Њ–≤, –Є–Љ–µ–љ –Є –і–∞–ґ–µ –њ–∞–љ—В–µ–Њ–љ–∞ –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –Є –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤.
–†—Л–љ–Њ–Ї, ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ¬ї –Є ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬ї
–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–µ–ґ–і—Г –і–≤—Г–Љ—П –Љ–Є—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ–є–љ–∞–Љ–Є –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞—Е –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Б—В—А–∞–љ –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є —А–µ–Ј–Ї–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞.
–Ф–ї—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–≥–Њ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–∞—П –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є –Є –≤–Є–і–Њ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±–ї–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–∞ –Ь–∞–Ї—Б–∞ –Т–µ–±–µ—А–∞, –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–∞ ¬Ђ–Ј–∞–Љ–µ–љ–∞ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –њ—А–Є–≤–µ—А–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ –љ—А–∞–≤–∞–Љ –Є –Њ–±—Л—З–∞—П–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ–µ—А–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞¬ї. (38) –Ш–Ј–Љ–µ–љ—П–ї–∞—Б—М –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤. –Х—Б–ї–Є –≤ –і–Њ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Є —А–∞–љ–љ–µ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б—Д–µ—А–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є (–µ—Б–ї–Є —А–µ—З—М –љ–µ —И–ї–∞ –Њ–± –Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–ї–Є –Њ–± –Є—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–∞–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞) –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–Є—Б—М –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–∞–Љ–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, —Б–∞–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, —В–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б—В–∞–ї–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П—В—М—Б—П —З–µ—А–µ–Ј —А—Л–љ–Њ–Ї. –°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Б—Д–µ—А–∞ (–≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ–∞, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, —Г—Е–Њ–і –Є —В.–і.), –±—Л–≤—И–∞—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –њ—А–µ—А–Њ–≥–∞—В–Є–≤–Њ–є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –Є–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–±—Л–ї–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –У–Њ—А—Ж, ¬Ђ–Љ–Њ–љ–µ—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –≤—Б–µ—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–∞–Љ–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–Ј–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–Є¬ї. (39) –≠—В–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞—О—В –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—Б—В –§.–Р. —Д–Њ–љ –•–∞–є–µ–Ї –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї, —З—В–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –љ–µ –љ–∞ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞—Е ¬Ђ–±—А–∞—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї, –∞ –љ–∞ —А—Л–љ–Њ—З–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—Е, –Є —А—Л–љ–Њ–Ї –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ —Б—В–∞—В—М –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–≤—П–Ј—Г—О—Й–Є–Љ –Ј–≤–µ–љ–Њ–Љ –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є. –Ь–µ—Б—В–∞ –і–ї—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ –ї—О–і–µ–є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Г–Ј–∞–Љ–Є –љ–µ–Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Њ–љ –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї –Є –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞ ¬Ђ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї –Ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—О. (40)
–Э–∞—А—П–і—Г —Б —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Т–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є (–њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ—Л—Е –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ—В–Њ–і–Њ–≤ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞¬ї), –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Њ—Б—М –≤ –Љ–µ–ґ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, –≤–µ–ї–Њ, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞, —А–∞–Ј–і—А–Њ–±–ї–µ–љ–Є—О –µ–≥–Њ –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ, –і—А–Њ–±–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є —Г—Б–ї–Њ–ґ–љ–µ–љ–Є—О —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞. –†–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–µ–±–µ —Б–Љ—Л—Б–ї –Є —Ж–µ–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–±–Њ—В—Л, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –°–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —Б–љ–Є–ґ–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Е–Њ–і –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Я—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —В–Є–њ–Њ–Љ —Б—А–µ–і–Є —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П —Б—В–∞–ї —В.–љ. ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л–є —А–∞–±–Њ—З–Є–є¬ї, –і–∞–ї–µ–Ї–Є–є –Њ—В –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —А–µ–Љ–µ—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Є–ї–Є —А–∞–љ–љ–µ–Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –Ш–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М –Є –µ–≥–Њ —З–∞—П–љ–Є—П: –≤ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥ –Ч–Є–≥–Љ—Г–љ—В –С–∞—Г–Љ–∞–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї ¬Ђ–Ј–∞–±–≤–µ–љ–Є–µ–Љ –Є—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤¬ї. –Ъ–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —В—А—Г–і–Њ–Љ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Њ–Љ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Є–Ј —Б—Д–µ—А—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ (–≥–і–µ –±–Њ—А—М–±–∞ —И–ї–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —В–∞–Ї–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Ї–∞–Ї —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ —В—А—Г–і–∞ –Є –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Њ–≤ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П) –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Є –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П (–њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є). (41) –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Њ—А—Г–і–Є—П –Є –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ. –Ю–љ–Њ, –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Ь–∞—А–Ї–Њ –†–µ–≤–µ–ї–Є, –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≤ ¬Ђ–≥–∞—А–∞–љ—В–∞¬ї —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–њ—А–Є–±–∞–≤–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–∞, –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–Є —Б ¬Ђ—В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–Љ¬ї —А–∞–≤–љ–Њ–≤–µ—Б–Є–µ–Љ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б–Є–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–ї–∞—Б—Б–∞–Љ–Є. –Я—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Њ—В –±–Њ—А—М–±—Л –Ј–∞ ¬Ђ–Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –љ–∞–і —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —В–µ–ї–Њ–Љ –Є –і—Г—И–Њ–є¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–µ—А–і—Ж–µ–≤–Є–љ—Г –њ—А–µ–ґ–љ–µ–≥–Њ ¬Ђ–±—Г–љ—В–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–є¬ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Є—Е –≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–µ —Б —Д–∞–±—А–Є—З–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є, –≤ –Њ–±–Љ–µ–љ –љ–∞ —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–ЄвА¶¬ї. (42)
–Я—А–µ–ґ–љ–µ–µ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ c–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —Н—В–Њ—Б–Њ–Љ –Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Г—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ (–љ–µ –±–µ–Ј –Њ–ґ–µ—Б—В–Њ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ –≤ —А—П–і–µ —Б—В–∞–љ –Ї –Њ—Б—В—А—Л–Љ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞–Љ –Є –њ–Њ–і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –≤ –Р—А–≥–µ–љ—В–Є–љ–µ, –Ш—Б–њ–∞–љ–Є–Є, –°–®–Р –Є –і—А.) (43) –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–∞–Љ, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –њ–Њ —В–µ–Љ –ґ–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ, —З—В–Њ –Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—Ж–Є–Є, –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –ї–Є—И–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Є –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ј–∞ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В—Л. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —А–∞–Ј–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥—А—Г–њ–њ –Є —Б—В—А–∞—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ –Ї—А–Є—В–µ—А–Є—П —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ—Л—Е –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї–Є —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –љ–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, —В.–љ. ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –Є–Ј –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е, –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–Є—А—Г—О—Й–Є—Е –і—А—Г–≥ —Б –і—А—Г–≥–Њ–Љ –љ–∞ —А—Л–љ–Ї–µ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і–Њ–≤. (44) –Э–Њ —В–∞–Ї–∞—П —А–∞–Ј—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –Є –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В –њ–Њ–і—А—Л–≤ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ (–≥—А–∞–ґ–і–∞–љ) –≤–µ—Б—В–Є –і–Є–∞–ї–Њ–≥ –Є –і–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П—Е (–њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ—Л—Б–ї–Є—В–µ–ї—М –Ъ.–Ъ–∞—Б—В–Њ—А–Є–∞–і–Є—Б –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї ¬Ђ–∞–≥–Њ—А–Њ–є¬ї, –њ–Њ –∞–љ–∞–ї–Њ–≥–Є–Є —Б –і—А–µ–≤–љ–µ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ї–Є—Б–Њ–Љ).
–Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–є ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї –±—Л–ї–∞ —А–∞—Б—В—Г—Й–∞—П –і–µ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П. –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –≤—Б–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Д–µ—А—Л: –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Њ–є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е, –±–Њ–ї—М–љ—Л—Е, ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б–ї–∞–±—Л—Е¬ї, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –Є —В.–і. –Я—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Љ–µ–ґ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –Љ–Њ—Й–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є —В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Њ–±—К—П—Б–љ—П–ї–Є –Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б–њ–∞–і–Њ–Љ —Г—Б—В–Њ—П–≤—И–Є—Е—Б—П —Б–≤—П–Ј–µ–є –Є —В—П–≥–Њ–є –Ї –Є—Е –≤–Њ—Б—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—О. –Ш–ї–ї—О–Ј–Є—О –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї–Є —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є. (45)
–Ъ–Њ–Љ–Љ–µ—А—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–Є —Г—Б–ї—Г–≥ –≤ XX –≤–µ–Ї–µ —Б—В–∞–ї–Є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–є –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–µ–є –∞—В–Њ–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Э–Њ –њ–ї–∞—В–љ—Л–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є –±—Л–ї–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–Љ. –Т —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Ј—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–є, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї–Њ –±—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М.
–†–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–Њ, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М—О –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –њ–Њ–ї–љ—Л–є —А–∞—Б–њ–∞–і —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ–∞. –Ю–љ–Њ —Б—В–∞–ї–Њ ¬Ђ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М¬ї —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –і–µ–ї–∞—В—М —Н—В–Њ –≤ –њ—А–µ–ґ–љ–Є—Е –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞—Е. ¬ЂвА¶–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≥–∞—А–∞–љ—В–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–∞, вАУ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ –Њ—Д–Є—Ж–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –±—А–Њ—И—О—А–µ, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є ¬Ђ–§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞¬ї –Є –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. вАУ –Ю–љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–µ—В –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –Ј–∞—Й–Є—В—Г —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ–∞, –љ–Њ –Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–µ—В –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –љ–µ—Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—Г—В–µ–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —А–µ–ґ–Є–Љ–Њ–≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–µ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ—П–Љ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞ —Б—З–µ—В —А–∞–±–Њ—В—Л –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–ї—Г–ґ–± –Є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤—Л—Е –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П. –°–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –±–µ–Ј –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –±—Л–≤–∞–µ—В. –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є —В–Њ–≥–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є—В–µ–ї—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –Њ–ї–Є—Ж–µ—В–≤–Њ—А—П—В—М —Б–µ–±—П —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –ї–Є—Ж–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞¬ї. (46)
–Ъ–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї —Г–ґ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є –У–Њ—А—Ж, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –Њ—В—А–µ–∞–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞ ¬Ђ–і–µ—Д–Є—Ж–Є—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –љ–µ –і–∞–≤–∞—П ¬Ђ–≤–Њ–є–љ–µ –≤—Б–µ—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤—Б–µ—Е¬ї –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Г. –Э–∞—З–Є–љ–∞—П —Б –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1920-—Е вАУ –љ–∞—З–∞–ї–∞ 1930-—Е –≥–≥., –љ–Њ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Њ–љ–Њ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ —Б—В—А–∞–љ –≤–Ј—П–ї–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є —А—Г–Ї–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ¬ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ. ¬Ђ–°–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ¬ї, –Є–ї–Є ¬Ђ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П¬ї –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–µ ¬Ђ—Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М –Ї–∞–Ї —Н—А–Ј–∞—Ж –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Т –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –Ї —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О, –Њ–љ–ЊвА¶ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —А–Њ—Б—В–Њ–Љ –Є —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ —А—Л–љ–Ї–∞, –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–ї–∞—Б—Б–∞–Љ–Є (–њ–µ—А–µ–Ї—А–µ—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Б—В–≤–Њ¬ї) –Є –і–µ–ї–∞–ї–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —В–µ—А–њ–Є–Љ—Л–Љ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ—Л–Љ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —В–µ–Љ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н—В–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –љ–∞ –љ–µ–µ –љ–∞–ї–∞–≥–∞–ї–Њ¬ї. (47)
–Т –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ, –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л ¬Ђ—Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–ї–Њ¬ї –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ (—З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞) –Њ—В –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е (–∞—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е, —Н–≥–Њ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е) –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –Є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–є —А—Л–љ–Ї–∞. –Ґ–∞–Ї, –≤ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є–Є, –≥–і–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Т—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –≤—Б–µ–Њ–±—К–µ–Љ–ї—О—Й–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞ –≤ —Б–µ–±—П –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П, –≤—Л–њ–ї–∞—В—Г –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є –љ–∞ –і–µ—В–µ–є –Є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–µ ¬Ђ–Њ—В –Ї–Њ–ї—Л–±–µ–ї–Є –і–Њ –Љ–Њ–≥–Є–ї—Л¬ї. (48) –Т –§–†–У —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Г—О —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є—П (–њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –і—А.) –Є –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є (–±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л–Љ, –љ–∞ –і–µ—В–µ–є, –љ–∞ –Њ–±–Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–ї—М–µ–Љ –Є —В.–і.) –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є –Ї–∞–Ї ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б–µ—В—М¬ї, –њ—А–Є–Ј–≤–∞–љ–љ—Г—О —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Њ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л—Е —А–Є—Б–Ї–Њ–≤ (49), –Ї–∞–Ї —Б–µ—В—М, –љ–∞—В—П–љ—Г—В–∞—П –њ–Њ–і –Ї–∞–љ–∞—В–Њ–Љ, —Б—В—А–∞—Е—Г–µ—В –Ї–∞–љ–∞—В–Њ—Е–Њ–і—Ж–∞.
¬Ђ–°–ґ–∞–≤—И–µ–µ—Б—П¬ї –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ–µ—А–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є —А—Л–љ–Ї–∞, –≤ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л—Е –±–ї–∞–≥ –Є —Г—Б–ї—Г–≥. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є –њ–Њ–ї–Є—В–Њ–ї–Њ–≥ –Ъ—Г—А—В –Ч–Њ–љ—В—Е–∞–є–Љ–µ—А –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї, —З—В–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ–µ –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤—Г–µ—В —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П ¬Ђ–і–Њ–±–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–є –Є–ї–Є –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є —Б—В–∞—В—Г—Б–∞, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є –Њ—В—Б—В–∞–Є–≤–∞–љ–Є—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤, –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –≥—А—Г–њ–њ—Л¬ї. (50) –Я—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј—Л —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є —В–µ–њ–µ—А—М –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Њ—А–≥–∞–љ–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —В—А—Г–і—П—Й–Є–µ—Б—П ¬Ђ–і–µ–ї–µ–≥–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є¬ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–≤–Њ–Є—Е ¬Ђ–њ–∞—А—В–Є–Ї—Г–ї—П—А–љ—Л—Е¬ї –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ –≤ –Њ–±—Й–µ–Љ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞ –Ї–Њ–љ—Б–µ–љ—Б—Г—Б–∞. (51) –Т–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л —В—А–µ—Е—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В—Л, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–Є–µ –Є–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞, —Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤ –Є –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞–≤—И–Є–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є. (52)
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–ґ–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1960-—Е –Є –≤ 1970-—Е –≥–≥. –≤—Л—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ вАУ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ—В —А–Њ—Б—В –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї—Б—П, –±–Њ—А—М–±–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–Њ—Б—В—А–Є–ї–∞—Б—М. –Я—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–љ—Б–µ—А–≤–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ —Б—В–∞–ї–Є –≤—Б–µ –≥—А–Њ–Љ—З–µ —Б–µ—В–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–∞ ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї –љ–µ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–∞, –≤–µ–і–µ—В –Ї —А–Њ—Б—В—Г –Є–љ—Д–ї—П—Ж–Є–Є –Є –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –±—О–і–ґ–µ—В–∞, –Њ—Б–ї–∞–±–ї—П–µ—В —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г –Є –µ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Њ–Њ—Й—А—П–µ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ ¬Ђ–Є–ґ–і–Є–≤–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–Њ¬ї. (53) –Ш–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, –Њ–љ–Є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї–Є, –±—Г–і—В–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –ґ–Є–≤–µ—В ¬Ђ–љ–µ –њ–Њ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ¬ї –Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б—Г–Ј–Є—В—М —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–є –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –±–Њ–ї—М—И–Є–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є –Є–≥—А–µ —А—Л–љ–Њ—З–љ—Л—Е —Б–Є–ї. (54) ¬Ђ–Э–∞—И–∞ –љ—Л–љ–µ—И–љ—П—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞, вАУ —Б—Г–Љ–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—Б—В –Т–Њ–ї—М—Д—А–∞–Љ –≠–љ–≥–µ–ї—М—Б, –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞ –і–µ–ї–Њ–≤—Л—Е –Ї—А—Г–≥–Њ–≤ ¬Ђ–Т–Є—А—В—И–∞—Д—В—Б–≤–Њ—Е–µ¬ї, вАУ –љ–µ —Г–Љ–љ–Њ–ґ–∞–µ—В –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ. –Ю–љ–∞ —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В –µ–≥–Њ. –≠—В–∞ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Є –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –µ–Љ—Г, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–≤–µ—В—Л –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л–µ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Л. –Ю–љ–∞ —Г–≥—А–Њ–ґ–∞–µ—В –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є –Є, –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, –і–∞–ґ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О –љ–∞—И–µ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞¬ї. (55) –£–ґ–µ –≤ 1970-—Е –≥–≥. –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —Б—В—А–∞–љ, —Б—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–≤—И–Є—Б—М —Б —А–Њ—Б—В–Њ–Љ –±—О–і–ґ–µ—В–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—Д–Є—Ж–Є—В–∞, –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Ї –Ј–∞–Љ–Њ—А–∞–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—О –Є–ї–Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ—Г–ґ–і—Л (–њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ ¬Ђ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–∞¬ї).
–Э–Њ –µ—Б–ї–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–∞, –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —А—Л–љ–Њ—З–љ–∞—П –љ–µ—Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Є —Г–±—Л—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї, –∞ —В–Њ—З–љ–µ–µ, –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М, —Б –Є—Е —В–Њ—З–Ї–Є –Ј—А–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї—Г—З–∞–µ–Љ–Њ–є –Є–Љ–Є –њ—А–Є –њ–µ—А–µ—А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –і–Њ–ї–Є ¬Ђ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—А–Њ–≥–∞¬ї, —В–Њ —А—П–і–Њ–≤—Л—Е –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ–њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤ –Є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ–Њ–≤, –Є—Е —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є –љ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Є—Е. –Ю–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Є –≤ 1950-–µ вАУ 1960-–µ –≥–≥. –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д—Л –Є –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є–Ї–Є, –њ–Є—Б–∞–≤—И–Є–µ –Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є ¬Ђ–≤–ї–∞—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Н–ї–Є—В—Л¬ї –Є–Ј –≤–µ—А—Е—Г—И–µ–Ї –Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–є, –Њ ¬Ђ—В–Њ—В–∞–ї–Є—В–∞—А–љ–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–µ¬ї –Є ¬Ђ–Њ–і–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–Љ¬ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, ¬Ђ–Є–љ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є¬ї –Є —В.–і. (56)
(...)
–Т 1980-—Е –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ 1990-—Е –≥–≥. –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Љ–Є—А–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В –Ї –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–µ, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–љ–µ–Њ–ї–Є–±–µ—А–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞¬ї. –Т –µ–µ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–∞—П –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –≤–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г, —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Є —В.–і. –Ч–∞ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ–є –≤ —З–∞—Б—В–љ—Л–µ —А—Г–Ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є –Є –±–∞–љ–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є –і–Њ–њ—Г—Б–Ї —З–∞—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—Д–µ—А—Г вАУ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Г, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Є —В.–і. –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і—Л –љ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –љ—Г–ґ–і—Л, —З—В–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ ¬Ђ–і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–∞ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї. –Ю—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Н–ї–Є—В—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—О—В –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞—В—М ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ¬ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј ¬Ђ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї, –љ–Њ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞—О—В –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ ¬Ђ—А–µ—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П¬ї —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г ¬Ђ—Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В–∞¬ї –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—В–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–є –≤ ¬Ђ–≥–ї–Њ–±–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ¬ї. –†–µ—З—М –Є–і–µ—В, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї (–≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–є, –њ–µ–љ—Б–Є–є, –≤—Л–њ–ї–∞—В, —Б—Г–±—Б–Є–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї—Г–≥ –Є –і—А., –њ—А–Њ–і–ї–µ–љ–Є–Є –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–∞ –њ–µ–љ—Б–Є—О) –њ–Њ–і —Д–ї–∞–≥–Њ–Љ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞—Б—Е–Њ–і–Њ–≤, ¬Ђ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є¬ї, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї—Г–≥, –њ–Њ–Њ—Й—А–µ–љ–Є—П —В—П–≥–Є –Ї —В—А—Г–і—Г –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–Є–ї–Є–є –Є –±–Њ—А—М–±—Л —Б ¬Ђ—Г–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В —А–∞–±–Њ—В—Л¬ї. (65) –Ю–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і—П—В—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—Б–љ–Њ–≤—Г.
–Я—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л. –Я–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –љ–Њ–≤–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ–Љ, —А—Л–љ–Ї–Њ–Љ –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ: –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–Ї–Є–і–∞–µ—В —А–∞–љ–µ–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –Є–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ —Б—Д–µ—А—Л –Є —Г—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –Љ–µ—Б—В–Њ —А—Л–љ–Ї—Г, —З—В–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г–µ—В —Н–ї–Є—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ—Г —Н—В–Є—Е —Б—Д–µ—А. –Я–µ—А–Є–њ–µ—В–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Њ–Є–ї–ї—О—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –љ–∞ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —В–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М –љ–µ—В—А—Г–і–Њ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л–Љ –Є —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–Љ. –Т XIX –≤. —Н—В—Г —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О –Є—Б–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –њ–Њ—З—В–Є –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—А–≥–∞–љ—Л –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞: —Б–Њ—О–Ј—Л –Є –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –Є —Б–Њ—Б–µ–і—Б–Ї–Њ–є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є, —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ–Є –Ї–∞—Б—Б—Л, —Б–µ–Љ—М—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ—Л—Е –Њ–±—Й–Є–љ. –Т XX –≤. –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤–≤–µ–ї–Њ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ—Б–Њ–±–Є—П –≤—Л–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є–Ј —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Њ–љ–і–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є—Б—М –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≤–Ј–љ–Њ—Б–Њ–≤ –Є –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Є —Г–њ—А–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –±—О—А–Њ–Ї—А–∞—В–Є–µ–є. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XX вАУ –љ–∞—З–∞–ї–µ XXI –≤–≤. –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В –њ—А–Є–≤–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Є —Б—В—А–∞—Е–Њ–≤—Л—Е —Д–Њ–љ–і–Њ–≤. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–µ—В –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –і–Њ—Б—В—Г–њ–∞ –Ї —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Г—Б–ї—Г–≥–∞–Љ, –∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П, –љ–µ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–∞—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–ї–∞—В–µ–ґ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О, –њ–Њ–њ—А–Њ—Б—В—Г –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –Є–Ј –љ–Є—Е. –Ю—Б–ї–∞–±–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, —Г–ґ–µ –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —В–µ —Б—Д–µ—А—Л, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Г—Е–Њ–і–Є—В –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ.
–Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –љ–µ–Њ–ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–µ—Д–Њ—А–Љ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ, –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –†–Є—З–∞—А–і–Њ–Љ –°–µ–љ–љ–µ—В—В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї —Г–≥—А–Њ–Ј–∞ ¬Ђ–Ї—А–∞—Е–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї. (66) –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤ –Ч–Є–≥–Љ—Г–љ—В –С–∞—Г–Љ–∞–љ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї —Н—В–Њ ¬Ђ–∞–≥–Њ—А–∞—Д–Њ–±–Є–µ–є¬ї вАУ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Ї —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤ —Е–Њ–і–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Л—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞—О—В—Б—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —А–µ—И–µ–љ–Є—П. –У–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –≤—Б—В—А–µ—З–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є, –њ–Є—И–µ—В –Њ–љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤—П—В—Б—П –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б—Л, —Б–њ—А–Њ–µ–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —Г –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є ¬Ђ–љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –і—А—Г–≥ –љ–∞ –і—А—Г–≥–∞, –Ј–∞–і—Г–Љ–∞—В—М—Б—П, –њ–Њ—А–∞–Ј–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –Є –њ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є—В—М –Њ —З–µ–Љ-—В–Њ –Є–љ–Њ–Љ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –≤—Л—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —В–Њ–≤–∞—А–Њ–≤ вАУ –Є—Е –≤—А–µ–Љ—П–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –Ї–Њ–Љ–Љ–µ—А—З–µ—Б–Ї—Г—О –≤—Л–≥–Њ–і—Г...¬ї. (67)
–Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—П—В–µ–ї–Є –Њ–±—А–∞—Й–∞—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —А–∞–Ј–Љ—Л–≤–∞–љ–Є–µ –Є–і–µ–Є –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±—Л. ¬Ђ–Т –љ–∞—И–µ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –і–ї—П –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П, –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є –±—Л –і—А—Г–≥–Є–Љ, –±–Њ–ї—М–љ—Л–Љ, —Б—В–∞—А–Є–Ї–∞–Љ, –љ—Г–ґ–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –≤ —Г—Е–Њ–і–µ. –Я—А–Є–Љ–µ—А –љ–µ–ї—М–Ј—П –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ¬ї, вАУ –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–Є–≤–∞–ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–±—Л –≤ –§–µ–і–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–Є–љ–Є—Б—В–µ—А—Б—В–≤–µ –њ–Њ –і–µ–ї–∞–Љ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ –Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ–ґ–Є –§–†–У –Ф–Є—В–µ—А –•–∞–Ї–Ї–ї–µ—А. (68)
–Т –Љ–µ–ґ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і –≤–Њ–Ј–Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–∞ –Љ–Њ–і–µ–ї—М ¬Ђ—Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–∞ вАУ —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Љ–∞¬ї, —В–Њ –µ—Б—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є, –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–∞, –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—П –Љ–∞—И–Є–љ–µ –Є –µ–µ —А–Є—В–Љ–∞–Љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є —Б—В–∞–ї–Є —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ –љ–µ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–Љ—Л—Б–ї–∞, —Ж–µ–ї–Є –Є —Е–Њ–і–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ –Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–Є, –љ–µ–≤–µ—А–Є–µ –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П —В—А—Г–і—П—Й–µ–≥–Њ—Б—П –љ–∞–і –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Є –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞, —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–∞ –і–ї—П –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–є –Ј–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —А–∞—Б—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ–є ¬Ђ—А–∞–±–Њ—З–µ–є –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л¬ї —Б –љ–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є –Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є, –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г.
–°–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ¬ї, ¬Ђ–∞—В–Њ–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ (–•.–Р—А–µ–љ–і—В) –Є –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ—Л–є –Є–Љ —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ ¬Ђ–±–µ–≥—Б—В–≤–∞ –Њ—В —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л¬ї (–≠.–§—А–Њ–Љ–Љ). –†–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Є–і–µ–є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є —Н—В–∞—В–Є–Ј–Љ–∞, –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—Й–Є—Е —В—П–≥—Г –ї—О–і–µ–є –Ї –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г ¬Ђ–њ—Б–µ–≤–і–Њ-—Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤—Г¬ї.
–Ш –µ—Й–µ:
–Т–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞–љ–Є–µ —А–Њ–ї–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –≤ 20-—Е - 30-—Е –≥–≥. —Б—В–∞–ї–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–і–≤–Є–≥–Њ–≤. –Э–∞—З–∞–ї–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—П –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–Њ–≤ –Є "—Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Њ-—В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є" —Д–Њ—А–Љ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї —А–µ–Ј–Ї–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—О —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Љ–µ—Б—В, –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Њ–±–љ–Є—Й–∞–љ–Є—О, –њ–∞–і–µ–љ–Є—О –њ–ї–∞—В–µ–ґ–µ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–∞ –Є "–≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –Ї—А–Є–Ј–Є—Б—Г". –°–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б —Н—В–Є–Љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞–Љ–Є –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ-—А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –љ–µ —Г–і–∞–≤–∞–ї–Њ—Б—М. –Т —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е "–∞—В–Њ–Љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ" –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Ј—П—В—М –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Љ–µ—А, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–Њ—Ж–Є—Г–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–ї –±—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Ї–∞–Ї –љ–µ–Ї–Њ–µ —Ж–µ–ї–Њ–µ.
–У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ –љ–Њ—А–Љ—Л —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —Б—Д–µ—А—Л –њ–Њ–≤—Б–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –љ–Њ –Є –љ–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї—Г - –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Б—Г–±—Б–Є–і–Є–є, –љ–∞–ї–Њ–≥–Њ–≤, —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Ж–µ–љ –Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–Њ–≤, –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –і–∞–ґ–µ –њ—А—П–Љ–Њ–≥–Њ –Њ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–∞. –Ч–∞–Љ–µ–љ—П—П —Б–Њ–±–Њ–є "–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ–Њ—Б—В–Є, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–µ —В–Њ–≤–∞—А–љ—Л–Љ–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є", –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Њ "–љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л–µ —А–∞–Љ–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–µ –і–∞—О—В —А—Л–љ–Њ—З–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—В—М—Б—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д–Њ–є"
-

frezer - –°—Г–њ–µ—А –Ѓ–Ј–µ—А
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 1146
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Я–љ –Љ–∞–є 21, 2007 12:57 pm
- –Ю—В–Ї—Г–і–∞: –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
–І—Г—В–Њ–Ї –µ—Й—С, –љ–Њ —Г–ґ–µ –љ–µ –Ј–љ–∞—О –Ї—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А:
–§–Ю–†–Ф–Ш–Ч–Ь –Ш –Ґ–Ю–Щ–Ю–Ґ–Ш–Ч–Ь
–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ґ–µ–є–ї–Њ—А–∞ –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ
–Ґ–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ вАЬ–љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–ЉвАЭ –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–µ–є –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞ –≤ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ –Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–µ–Ї–∞ –і–Њ 80-—Е –≥–≥. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—О - –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Г –Т–Є–љ–і–Ј–Њ—А—Г –Ґ–µ–є–ї–Њ—А—Г (1856-1915). –Ю–љ –љ–∞—З–∞–ї –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —В—А—Г–і–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞—Е –Є –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —В—А—Г–і–∞ –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –µ–≥–Њ вАЬ–љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–ЊвАЭ —А–µ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ю—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г —Б—В–∞–ї–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–µ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б—И–µ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–µ—И–∞–ї–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ—Г —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —А–Њ—Б—В—Г –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —Н—В–∞ –љ–Њ–≤–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–∞—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –§–Њ—А–і–∞ –≤ –°–®–Р –≤ 20-—Е –≥–≥. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ 70-—Е –≥–≥. –њ—А–Є–љ—П—В —В–∞–Ї–ґ–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ вАЬ—Д–Њ—А–і–Є–Ј–ЉвАЭ.
–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Љ–∞, –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П: –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –±–ї–∞–≥ –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –і–ї—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, –њ—А–Є–≤—П–Ј–Ї–∞ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П, –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —Б—В–µ–њ–µ–љ—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –Є –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В—А—Г–і–∞ –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П –Ї –Љ–∞—И–Є–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞–Љ, —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –љ–∞–і –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ї—А–∞–є–љ–µ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –љ–∞–і —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ–Є, —Б–і–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ–њ–ї–∞—В–∞ –≤ —А–Њ–ї–Є —Б—В–Є–Љ—Г–ї–∞.
–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Є —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Ъ–µ–є–љ—Б–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ вАЬ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—ПвАЭ –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–Њ—Б—М –Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–Љ —А–Њ—Б—В–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–∞, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤ —Б—Д–µ—А–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є. –Я—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј—Л —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Е–Њ–і–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б вАЬ—А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–ЄвАЭ –Њ —В–∞—А–Є—Д–љ—Л—Е —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є —А–Њ—Б—В –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.
–Ъ—А–Є–Ј–Є—Б —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–∞
–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 70-—Е –≥–≥. —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–µ–ґ–љ—П—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–µ. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ—А–Є–±—Л–ї–Є —А–Њ—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–µ–µ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Д—В—П–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—В—М—Б—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж—Л. –Я—А–µ–ґ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –Њ–±—К–µ–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –≠—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–Є—П —А—Л–љ–Ї–Њ–≤, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є - —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В—А—Г–і–∞.
–£—З–Є—В—М—Б—П —Г –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є
–° —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–Њ–ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Л –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є, —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —Г —А—Г–ї—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –љ–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–є —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О (–≤–љ–Њ–≤—М) –њ–Њ–і–љ—П—В—М —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, —Б—В—А–∞–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В–∞ —Б–њ–∞–і–Њ–Љ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ –Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж–µ–є.
–Ґ–∞–Љ —Г–ґ–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є - –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А–љ–µ вАЬ–Ґ–Њ–є–Њ—В–∞вАЭ - –±—Л–ї–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П вАЬ—В–Њ–є–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞вАЭ. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–∞—П –≠.–Ґ–Њ–є–Њ–і–Њ–є –Є –Ґ.–Ю–љ–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е, —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б вАЬ–Є—ЕвАЭ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ–Є. –Р —В–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞ —Б–µ—А–Є–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –ї—М–≥–Њ—В, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–ї—М—П –Њ—В –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞ –≤ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е –Є —В.–і., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є–≥—А–∞—О—В –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Ж–µ–ї—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ —Д–Є—А–Љ—Л. –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В–Њ–є–Њ—В–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ - –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –≥–Є–±–Ї–Њ–≥–Њ, –і–µ—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –° (—А–µ)–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–µ–є –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –љ–∞–і –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е –Є –±—А–Є–≥–∞–і–∞—Е –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞. –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ–≤. –¶–µ–ї—М, –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –і—А–µ–Љ–ї—О—Й–Є–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Њ—В –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–µ–Ї –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –њ–∞–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П —А–Њ—Б—В–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞.
–Э–Њ–≤—Л–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є...
–Т–∞–ґ–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –і–ї—П –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ, –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –° –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Њ–Љ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –±–∞–Ј–∞ –і–ї—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –Є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е. –Ю—Б–Њ–±–Њ –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–Є —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞–Љ–Є –Є —А–Њ–±–Њ—В–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А—Л –њ–Њ–≤—Л—И–∞—О—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –і–ї—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л вАЬ–≥–Є–±–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞вАЭ –Є вАЬ–≥–Є–±–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—ПвАЭ.
–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –і–µ–ї–∞—О—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї –Є, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ, - –±–Њ–ї–µ–µ –≥–Є–±–Ї–Њ–µ –Є —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–∞–Љ—Л–Љ –і–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П–Љ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞.
... –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є
–° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ—Л—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤—Л—Е —Б—Д–µ—А–∞—Е (–≤ вАЬ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Е –њ—А–Є–±—Л–ї–ЄвАЭ) –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—В—М—Б—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤—Л—З–ї–µ–љ–µ–љ–Є–µ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ —Г—Б–ї—Г–≥, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–∞—П, –±—А–Є–≥–∞–і–∞ —Г–±–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—Е—А–∞–љ–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–і–µ–ї—Л, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, - —А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ—В —В–µ—Е –Њ—В—А–µ–Ј–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—З–Є—В–∞—О—В—Б—П –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є –Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П-–њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ (вАЬoutsourcingвАЭ>). –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —В–µ–њ–µ—А—М –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є –Є–ї–Є –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є —Б –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є —Д–Є—А–Љ–∞–Љ–Є.
–≠—В–∞ –і–µ—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Ї —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–Љ—Г –Є –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ вАЬ—Б–µ—В–µ–≤—Л–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П —В–Є–њ–∞ –С–µ–љ–µ—В—В–Њ–љвАЭ (–Ъ.–•.–†–Њ—В) –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ —Б–њ–µ–Ї—В—А—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–њ–Є—А–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Б–µ—В–µ–≤—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є-–њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Г—Б–ї—Г–≥.
–Ґ—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П
–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –Є –љ–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П.
–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П, –±—Л–≤—И–∞—П –љ–∞ —В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–µ–є, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —В–µ–њ–µ—А—М –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Є–љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ—В–µ—А–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Э–∞—А—П–і—Г —Б —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ–Љ —З–Є—Б–ї–∞ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–є –љ–∞ –љ–Є–Ј–Њ–≤–Њ–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–µ—Е–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –≤ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –љ–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Є —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ, –∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–є —А–µ—Б—Г—А—Б. –Я—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞ –ґ–µ –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А —Б–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, - —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–µ–±—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ вАЬ—А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–ЉвАЭ. –Т–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–≥—А–∞–µ—В –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П вАЬ–Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–ЄвАЭ, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ —Д–Є—А–Љ—Л —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–µ–±—П —Б –љ–µ–є.
–Ъ–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М - –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —А–µ–Ї–ї–∞–Љ–љ–Њ –≤—Л–Є–≥—А—Л—И–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–≤—П–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ —Д–Є—А–Љ—Л –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є вАЬ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—ПвАЭ –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –і–ї—П –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–µ–±—П —Б вАЬ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—ПвАЭ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ—Г–ґ–љ—Л–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї.
–Ґ–Њ–є –ґ–µ —Ж–µ–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–∞—В –Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ вАЬ–Ї—А—Г–ґ–Ї–Є –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є–ЄвАЭ –Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –≤–љ—Г—В—А–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є, –≥–і–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–љ–µ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ш–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В–µ–Љ–∞–Љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Љ, –љ–Њ –Є –≤ –±–µ—Б–µ–і–∞—Е –њ—А–Є –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г —Б–ї—Г–ґ–∞—В —В–∞–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї вАЬ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—МвАЭ, вАЬ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µвАЭ, вАЬ—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї —Д—А—Г—Б—В—А–∞—Ж–Є–ЄвАЭ –Є–ї–Є вАЬ–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µвАЭ.
–Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ вАЬ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—ПвАЭ –Є–≥—А–∞—О—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –њ—А–Є–±—Л–ї—П—Е –Є–ї–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ф—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ вАЬ–Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б—В—А–µ—Б—Б–∞вАЭ. –Я–Њ–і —Н—В–Є–Љ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Љ–µ—Б—В —А–Њ—Б—В —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞, —З—В–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–∞–µ—В –µ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Є—Б–Ї–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є–Љ–µ—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ—Б—В–Є—З—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є. –Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–і–µ—Б—М —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞–Љ–Є, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Є–ї–Є –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є. –Я—А–Є —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Њ–љ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ґ–µ—Б—В—З–µ, —З–µ–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–∞, —Б—В—А–∞—Е –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–µ–є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є. –Ф–∞–ї–µ–µ, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є вАЬ–і—Л—И–∞—Й–µ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–ЄвАЭ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–∞—П –≥–Є–±–Ї–Њ—Б—В—М —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ–љ—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–і —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–∞ —В—А—Г–і —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б–≤–µ—А—Е—Г—А–Њ—З–љ–Њ, –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–ї–∞—В—Л; –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –ї—О–і–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤ –Њ—В–≥—Г–ї—Л. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В: –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П –і–ї—П –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П - —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–µ–≤—Л–њ–ї–∞—В–∞ —Б–≤–µ—А—Е—Г—А–Њ—З–љ—Л—Е –і–µ–љ–µ–≥, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є - —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ–≤.
–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —В–Њ–є–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г–ґ–µ –љ–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Ї —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Г—О —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. вАЬ—А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Љ–∞вАЭ –Є–ї–Є вАЬ—Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –≤ —Б—В–µ–њ–µ–љ—МвАЭ (–Ь.–†–µ–≤–µ–ї–ї–Є. –Ю—В вАЬ—Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–∞вАЭ –Ї вАЬ—В–Њ–є–Њ—В–Є–Ј–Љ—ГвАЭ. // –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Г вАЬSozialismus>вАЭ, 1997, вДЦ4).
–Т–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П —В–Њ–є–Њ—В–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г –Њ–њ–Њ—А—Г. –Ю–љ–∞ –±–∞–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —П–і—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞—Е. (–Ш –Ј–і–µ—Б—М –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ—Б—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Б—В–∞–ї –Њ—Й—Г—Й–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 2-3 –≥–Њ–і–∞).
–У–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –±—Л–ї —А–∞–љ—М—И–µ –Ј–∞–љ—П—В –љ–∞ —Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е, —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Ї –њ—А–µ–Ї–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–љ–љ–µ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –≤ –љ–µ–≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є –љ–µ–Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ—Л–µ. –°—О–і–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Є–і—Л –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і—А—П–і–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В –љ–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї, –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В—М –љ–∞ –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є –Љ–∞–ї—Л—Е –Є–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—П—Е, –Љ–љ–Є–Љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і, —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Г –Є —В.–і. –°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П–µ—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —П–≤–љ–Њ —Е—Г–ґ–µ –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. (–Т –°–®–Р –љ–Њ–≤–∞—П –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –і–∞–µ—В –љ–∞ 14% –Љ–µ–љ—М—И–Є–є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї, —З–µ–Љ –њ—А–µ–ґ–љ—П—П. –Ґ—А–µ—В—М –≤—Б–µ—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≥–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ –≤ 15 —В—Л—Б—П—З –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤ –≤ –≥–Њ–і. - вАЬ–¶–∞–є—ВвАЭ, 1998, вДЦ49). –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —А–Њ—Б—В —Б–ї–Њ—П вАЬ—А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –±–µ–і–љ—Л—ЕвАЭ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –Є—Б–Ї–∞—В—М —Б–µ–±–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є, –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Л–µ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П–Љ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ—В —В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Ї –љ–µ—В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ (–Ъ.–•.–†–Њ—В). –Э–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б - –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ - —А–µ–і–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Л—В–µ—Б–љ—П—О—В—Б—П —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –£–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —З–Є—Б–ї–Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є, —З–µ—А–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є.
–Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б—В–µ—В –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —А—П–і—Л –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ вАЬ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В—ЛвАЭ –Є–ї–Є —Б–µ–Ј–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є —Г–±–Њ—А–Ї–µ —Г—А–Њ–ґ–∞—П –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В—М –Ї —В—А—Г–і—Г –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–Є.
–Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ (—В.–µ. –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, - –њ—А–Є–Љ. –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і.) —А—Л–љ–Ї–µ —В—А—Г–і–∞ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ —Б—Д–µ—А—Л –≤ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–µ —Г—Б–ї—Г–≥, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, вАЬ–∞–і—А–µ—Б–љ—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–ЄвАЭ. (–≠—В–Њ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Ј –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАЬ–Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж–∞ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є - –Љ–µ—А—Л –њ–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —Б –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В—М—ОвАЭ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –С–∞–≤–∞—А–Є–Є –Є –°–∞–Ї—Б–Њ–љ–Є–Є. –Ґ–∞–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј —А–∞—Б—Е–≤–∞–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ, –Ї–∞–Ї вАЬ—Г—Б–ї—Г–≥–Є –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –і–Њ–Љ—ГвАЭ –Є–ї–Є вАЬ—В–Њ—А—В–Њ–≤—Л–є —Б–µ—А–≤–Є—БвАЭ –Є вАЬ–њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Є —Б—В–Є–ї–µ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–ЄвАЭ).
–°–≤–µ—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —В—Г–љ–љ–µ–ї—П?
–Т –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, —П—Б–љ–Њ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –±—Г–і–µ—В –Є–і—В–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≥–Њ–і—Л, –љ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±—Л –њ—А–Є–Љ—Г—В –њ—А–µ–Ї–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є –Њ–±–љ–Є—Й–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –≠—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –±—Г–і—Г—В –ї–Є —В–µ, –Ї—В–Њ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В —Н—В–Є–Љ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ–Љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–Љ, —В–µ—А–њ–µ—В—М –µ–≥–Њ, –Є–ї–Є –ґ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–µ—В —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ.
–Ф–ї—П –µ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Г—З–µ—В –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ –≤ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є:
—Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е —Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є;
–±–Њ–ї–µ–µ —Б–Є–ї—М–љ–∞—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –≥—А–∞–і–∞—Ж–Є—П –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В—Л –њ—А–µ–Ї–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є, —З—В–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–є –њ–Њ–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –і–Њ—Е–Њ–і–∞—Е;
—Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б (–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є) —Д–ї–µ–Ї—Б–Є–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Ї –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–µ–є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –≤—Л—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є–µ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –і–µ–ї–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ—Л—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А;
–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є, —П—Б–љ–Њ –Њ—З–µ—А—З–µ–љ–љ–Њ–є –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б —Н—В–Є–Љ —Г—В—А–∞—В–∞ –≤–µ—А—Л –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О;
–±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —Г—П–Ј–≤–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –∞—Е–Є–ї–ї–µ—Б–Њ–≤–Њ–є –њ—П—В–µ —Б–µ—В–µ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞.
–Т –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞—Е –Љ–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ вАЬ–Ґ—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞вАЭ. –Ю–±—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В. –Т —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ вАЬ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Ї–Њ–≤вАЭ. –Т —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е вАЬ–њ–Њ—В–Њ–≤—Л–ґ–Є–Љ–∞–ї–Ї–∞—ЕвАЭ –≤ —А–∞–љ–љ–µ-—В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≤–Ї–∞–ї—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —А—Л–љ–Њ–Ї –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–µ—Б–њ—А–∞–≤–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є. –†–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –і–∞–ґ–µ –Њ—В —Н—В–Є—Е вАЬ–±–ї–∞–≥вАЭ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –њ–Є—В–∞—В—М—Б—П –Ї—А–Њ—И–Ї–∞–Љ–Є –Є –Њ—В–±—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –±–Њ–≥–∞—З–µ–є - –ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ –Є–ї–Є >–љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ.
–Э–Њ–≤—Л–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В?
–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є—Е –≤—Л—И–µ–њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ–Є—Б–Ї—Г –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞—И–Є—Е –Є–і–µ–є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —З–µ—В–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–Є –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Г–і–µ—В —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –≤—Б–µ —В—А—Г–і–љ–µ–µ. –І–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Б—В–Є—А–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є (—В–Њ –µ—Б—В—М, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є). –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —А–∞—Б—В–µ—В —З–Є—Б–ї–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Љ–љ–Є–Љ–Њ-—Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –Є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –љ–µ –≤—Л—П–≤–Є—В—М. –° –і—А—Г–≥–Њ–є, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —П–і—А–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤—Л —В–Њ–є–Њ—В–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —З–µ—А–µ–Ј —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ—А–Є–±—Л–ї—П—Е –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ (–Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ!). –≠—В–Њ –≤–ї–Є—П–µ—В, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Є –љ–∞ –Є—Е —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ.
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Н—В–Є—Е —П–і—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ –Є—Е –ї–Є—И—М —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є. –Ш–љ–∞—З–µ —Б—З–Є—В–∞—О—В, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –≤–Є–і—П—В –≤ —П–і—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В. –Я–Њ –Є–љ–Њ–Љ—Г —Б—З–Є—В–∞–µ—В –Є –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї –Р.–Э–µ–≥—А–Є. –Ю–љ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є–Ї–∞—Е —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ - —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ вАЬ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–ЉвАЭ - –Ј–∞—А–Њ–і—Л—И –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–љ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—О—В —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ–Њ–µ —Б–Ї—А—Л—В–Њ–є —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–Є, –љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г–µ—В –Є –Є—Е –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Г–љ–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї—П–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –ї–µ–≥–Ї–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤–Њ–є –Ї –њ—А–∞–≤—Л–Љ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П–Љ. (–Р–љ–і—А–µ –У–Њ—А—Ж –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ вАЬ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї-–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–ЄвАЭ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –Є вАЬ–Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї–µ–є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Љ–µ—Б—ВвАЭ. –°–Љ. –Р.–У–Њ—А—Ж. –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞. –У–∞–Љ–±—Г—А–≥, 1994). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є–ї–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –µ–µ —З–∞—Б—В–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—Г, - –њ—А–Є–Љ. –њ–µ—А–µ–≤.) –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–∞ –і–ї—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ - –∞ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞—В—М –Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ.
–Э–Њ –Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –љ–µ–≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е –Є–ї–Є —Б —В–µ–Љ–Є, –Ї—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ –Є–Ј –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А—Г–µ—В —Г—Б–њ–µ—Е. –†–∞—Б—В—Г—Й–∞—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П / –і–µ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Г–≥–∞—Б—И–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –±–Њ—А—М–±—Л –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Є –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є —Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–ґ—Г—Й–∞—П—Б—П –±–µ–Ј–∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—В —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Н—В–Є–Ї–Є, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –ї—О–±—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –Њ—В –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ —Б—Д–µ—А–∞—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –±—Л –Љ–∞–ї—Л–Љ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В. (–Ґ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –і–ї—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –ї—О–і–µ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —З–∞—Б—В–Њ –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Є –љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –±–Є—А–ґ–∞ —В—А—Г–і–∞, —Б–Њ—Б–µ–і—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —В.–і.). –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е –±–Њ—А—М–±—Л, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, —Б–∞–±–Њ—В–∞–ґ, –±–Њ–є–Ї–Њ—В –Є —В.–і. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –љ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ –Ї—Г—Б–Ї–∞ –њ–Є—А–Њ–≥–∞, –∞ –±–Њ—А—М–±–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї–∞–Ї —В—А—Г–і–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж–µ–є.
–Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–∞—П –∞—Е–Є–ї–ї–µ—Б–Њ–≤–∞ –њ—П—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–∞—В—М –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–Њ–Љ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ –Є–Ј –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ч–і–µ—Б—М –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —В–Њ—З–µ–Ї —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П (–Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –±–ї–Њ–Ї–∞–і –Є —В.–і.) –і–ї—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л —Б —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Н—В–Є—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є.
–Ґ–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –±–Њ—А—М–±—Л –≤ —Б—Д–µ—А–µ –њ–Њ–і—А—П–і–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, —Г –љ–∞—Б –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—Г—В–Є –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–±–і—Г–Љ–∞—В—М –≤—Б–µ –љ–∞—И–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –Є—Е —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є –Њ–њ—Л—В–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Л—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –љ–Њ–≤–Њ–є —Г—В–Њ–њ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±–µ–Ј —А—Л–љ–Ї–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –Є –Њ—В—Г–њ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ (–љ–∞–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ) —В—А—Г–і–∞
–Я—Г–±–ї–Є–Ї—Г–µ—В—Б—П —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ–Њ: вАЬDirekte Aktion>вАЭ, вДЦ131, —П–љ–≤–∞—А—М-—Д–µ–≤—А–∞–ї—М 1999 –≥
–§–Ю–†–Ф–Ш–Ч–Ь –Ш –Ґ–Ю–Щ–Ю–Ґ–Ш–Ч–Ь
–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ґ–µ–є–ї–Њ—А–∞ –Њ—В—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ
–Ґ–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ вАЬ–љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–ЉвАЭ –±—Л–ї–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й–µ–є –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞ –≤ –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ –Є –Т–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–µ–Ї–∞ –і–Њ 80-—Е –≥–≥. –Э–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В –Ї –µ–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—О - –§—А–µ–і–µ—А–Є–Ї—Г –Т–Є–љ–і–Ј–Њ—А—Г –Ґ–µ–є–ї–Њ—А—Г (1856-1915). –Ю–љ –љ–∞—З–∞–ї –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —В—А—Г–і–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞—Е –Є –≤ –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Є—Е –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ —В—А—Г–і–∞ –љ–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ–њ–µ—А–∞—Ж–Є–Є –Є –µ–≥–Њ вАЬ–љ–∞—Г—З–љ–Њ–≥–ЊвАЭ —А–µ—Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ю—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Н—В–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞ –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –Љ–Є—А—Г —Б—В–∞–ї–Њ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–µ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б—И–µ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Љ–µ—И–∞–ї–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ—Г —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —А–Њ—Б—В—Г –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є. –Т–њ–µ—А–≤—Л–µ —Н—В–∞ –љ–Њ–≤–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ –Њ–±—К–µ–Љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–∞—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–≤ –§–Њ—А–і–∞ –≤ –°–®–Р –≤ 20-—Е –≥–≥. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–ї—П –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ–µ—А–Є–Њ–і–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ 70-—Е –≥–≥. –њ—А–Є–љ—П—В —В–∞–Ї–ґ–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ вАЬ—Д–Њ—А–і–Є–Ј–ЉвАЭ.
–•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Љ–∞, –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е, —П–≤–ї—П—О—В—Б—П: –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –±–ї–∞–≥ –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –і–ї—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, –њ—А–Є–≤—П–Ј–Ї–∞ —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –Ї —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є—П, –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —Б—В–µ–њ–µ–љ—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞ –Є –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В—А—Г–і–∞ –њ—Г—В–µ–Љ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П –Ї –Љ–∞—И–Є–љ–љ—Л–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞–Љ, —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –љ–∞–і –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Ї—А–∞–є–љ–µ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –љ–∞–і —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ–Є, —Б–і–µ–ї—М–љ–∞—П –Њ–њ–ї–∞—В–∞ –≤ —А–Њ–ї–Є —Б—В–Є–Љ—Г–ї–∞.
–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–∞—Б—М –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ–Љ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-–≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є—П –Є —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М—О —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Њ—А–Љ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є. –Ъ–µ–є–љ—Б–Є–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ вАЬ–≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—ПвАЭ –Ј–∞–±–Њ—В–Є–ї–Њ—Б—М –Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ–Љ —А–Њ—Б—В–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Њ—А–Є–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б –њ–Њ–ї–Є—В–Є–Ї–Є —А–µ–≥—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є —Б—В–Є–Љ—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–∞, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, –≤ —Б—Д–µ—А–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є. –Я—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј—Л —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Е–Њ–і–µ –њ–µ—А–µ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤ —Б вАЬ—А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї—П–Љ–ЄвАЭ –Њ —В–∞—А–Є—Д–љ—Л—Е —Б–Њ–≥–ї–∞—И–µ–љ–Є—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є–Љ –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л–є —А–Њ—Б—В –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Є –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є.
–Ъ—А–Є–Ј–Є—Б —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–∞
–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ 70-—Е –≥–≥. —Б—В–∞–ї–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–µ–ґ–љ—П—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–µ. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ—А–Є–±—Л–ї–Є —А–Њ—Б–ї–Є –≤—Б–µ –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–µ–µ, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–µ—Д—В—П–љ–Њ–≥–Њ –Ї—А–Є–Ј–Є—Б–∞ –љ–∞—З–∞–ї —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—В—М—Б—П —Д–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж—Л. –Я—А–µ–ґ–љ–Є–µ —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ –Њ–±—К–µ–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –љ–∞—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л. –≠—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–Љ, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–Є—П —А—Л–љ–Ї–Њ–≤, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є - —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і—П—Й–Є—Е—Б—П –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Г—Б–Є–ї–Є–≤–∞—О—Й–µ–є—Б—П –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В—А—Г–і–∞.
–£—З–Є—В—М—Б—П —Г –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є
–° —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–µ–Њ–ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–Ї—В—А–Є–љ—Л –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є, —Б—В–Њ—П—Й–Є–µ —Г —А—Г–ї—П —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–∞—З–∞–ї–Є –Њ–≥–ї—П–і—Л–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е –љ–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–є —А–µ–Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —Б —Ж–µ–ї—М—О (–≤–љ–Њ–≤—М) –њ–Њ–і–љ—П—В—М —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –њ—А–Є–±—Л–ї–µ–є. –Ю–љ–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, —Б—В—А–∞–љ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –љ–µ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В–∞ —Б–њ–∞–і–Њ–Љ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ –Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж–µ–є.
–Ґ–∞–Љ —Г–ґ–µ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—В–Њ—А–Њ–є –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –љ–∞ —Д–∞–±—А–Є–Ї–∞—Е –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є - –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А–љ–µ вАЬ–Ґ–Њ–є–Њ—В–∞вАЭ - –±—Л–ї–∞ –≤–≤–µ–і–µ–љ–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ–∞—П –њ–Њ –µ–≥–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П вАЬ—В–Њ–є–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞вАЭ. –Ъ–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ–∞—П –≠.–Ґ–Њ–є–Њ–і–Њ–є –Є –Ґ.–Ю–љ–Њ, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ –љ–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ –ѓ–њ–Њ–љ–Є–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е, —Б–∞–Љ–Њ–Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б вАЬ–Є—ЕвАЭ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П–Љ–Є. –Р —В–Њ, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—Б—П, –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ–Њ–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –љ–∞ —Б–µ—А–Є–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –ї—М–≥–Њ—В, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–ї—М—П –Њ—В –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ–Є–µ –њ–Њ —Б—В–∞—А–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–∞ –≤ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е –Є —В.–і., –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є—Б—М, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ–ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є–≥—А–∞—О—В –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —Ж–µ–ї—Л—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–Њ–≤ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л–µ —Д–Є—А–Љ—Л. –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В–Њ–є–Њ—В–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ - –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і –Ї –Љ–Њ–і–µ–ї–Є –≥–Є–±–Ї–Њ–≥–Њ, –і–µ—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞. –° (—А–µ)–Є–љ—В–µ–≥—А–∞—Ж–Є–µ–є –њ–ї–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Є –Ї —А–∞–±–Њ—В–µ –Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –љ–∞–і –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –≥—А—Г–њ–њ–∞—Е –Є –±—А–Є–≥–∞–і–∞—Е –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —В—А—Г–і–∞. –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ–≤. –¶–µ–ї—М, –≤ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л, –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—П –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –і—А–µ–Љ–ї—О—Й–Є–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ –Њ—З–Є—Б—В–Є—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Њ—В –≤—Б—П—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є–Ј–і–µ—А–ґ–µ–Ї –Є —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ –і–Њ–±–Є—В—М—Б—П —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –њ–∞–і–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П —А–Њ—Б—В–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞.
–Э–Њ–≤—Л–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є...
–Т–∞–ґ–љ–Њ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є –і–ї—П –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ, –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. –° –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Њ–Љ –Љ–Є–Ї—А–Њ—Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–∞ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–∞ –±–∞–Ј–∞ –і–ї—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –Є –Њ–±—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е. –Ю—Б–Њ–±–Њ –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ–≤–µ–є–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–≥–ї–Є —В–µ–њ–µ—А—М –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ—П—В—М—Б—П –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–∞–Љ–Є –Є —А–Њ–±–Њ—В–∞–Љ–Є. –Ъ–Њ–Љ–њ—М—О—В–µ—А—Л –њ–Њ–≤—Л—И–∞—О—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –і–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–±—А–∞–Ј—Г—О—В –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–Є –і–ї—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л вАЬ–≥–Є–±–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞вАЭ –Є вАЬ–≥–Є–±–Ї–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—ПвАЭ.
–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є–љ—Б—В—А—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ –Љ–∞—И–Є–љ—Л –і–µ–ї–∞—О—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–µ—А–µ–Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є—О –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є–є —Б—А–Њ–Ї –Є, —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ, - –±–Њ–ї–µ–µ –≥–Є–±–Ї–Њ–µ –Є —Б–≤–Њ–µ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–∞–Љ—Л–Љ –і–µ—В–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П–Љ –Ї–ї–Є–µ–љ—В–∞.
... –Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є
–° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –љ–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ—Л—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤—Л—Е —Б—Д–µ—А–∞—Е (–≤ вАЬ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Е –њ—А–Є–±—Л–ї–ЄвАЭ) –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞—В—М—Б—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–µ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Э–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ —Н—В–Њ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –≤—Л—З–ї–µ–љ–µ–љ–Є–µ –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –≤ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ —Г—Б–ї—Г–≥, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї —Б—В–Њ–ї–Њ–≤–∞—П, –±—А–Є–≥–∞–і–∞ —Г–±–Њ—А—Й–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—Е—А–∞–љ–∞ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Њ—В–і–µ–ї—Л, –∞ —Б –і—А—Г–≥–Њ–є, - —А–∞–Ј–≥—А—Г–Ј–Ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ—В —В–µ—Е –Њ—В—А–µ–Ј–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б—З–Є—В–∞—О—В—Б—П –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–Љ–Є –Є –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞ –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П-–њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ (вАЬoutsourcingвАЭ>). –Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П –њ–Њ–і—А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–∞—О—В—Б—П –≤ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –µ–і–Є–љ–Є—Ж—Л –Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —В–µ–њ–µ—А—М –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–≤–Њ—О –њ—А–Є–±—Л–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є –Є–ї–Є –≤ –њ—А—П–Љ–Њ–є –Ї–Њ–љ–Ї—Г—А–µ–љ—Ж–Є–Є —Б –≤–љ–µ—И–љ–Є–Љ–Є —Д–Є—А–Љ–∞–Љ–Є.
–≠—В–∞ –і–µ—Ж–µ–љ—В—А–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Ї —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–Љ—Г –Є –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–Ј–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Г –Ї–Њ–љ—Ж–µ–љ—В—А–∞—Ж–Є–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—Й–Є–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ вАЬ—Б–µ—В–µ–≤—Л–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П —В–Є–њ–∞ –С–µ–љ–µ—В—В–Њ–љвАЭ (–Ъ.–•.–†–Њ—В) –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Њ–≤–Њ–Ї—Г–њ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–µ —Б–њ–µ–Ї—В—А—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ–њ–Є—А–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–Є–Љ—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –љ–∞ —Б–µ—В–µ–≤—Г—О —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А—Г –≤—Б–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є-–њ–Њ—Б—В–∞–≤—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Г—Б–ї—Г–≥.
–Ґ—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П
–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –≤ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –Є –љ–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П.
–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П, –±—Л–≤—И–∞—П –љ–∞ —В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–µ –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ–Њ—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–µ–є, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —В–µ–њ–µ—А—М –Њ—В–±—А–Њ—И–µ–љ–∞ –Є–Ј-–Ј–∞ –µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –Є–љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ–Њ—В–µ—А–Є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є. –Э–∞—А—П–і—Г —Б —Г–Љ–µ–љ—М—И–µ–љ–Є–µ–Љ —З–Є—Б–ї–∞ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—В—Г–њ–µ–љ–µ–є –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–µ—В—Б—П –Є –њ–µ—А–µ–і–∞—З–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ–Њ—З–Є–є –њ—А–Є–љ—П—В–Є—П —А–µ—И–µ–љ–Є–є –љ–∞ –љ–Є–Ј–Њ–≤–Њ–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –њ–Њ–Љ–µ—Е–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л–ї–Њ –≤ —Б—В—А–Њ–≥–Њ –љ–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Є —А–µ–≥–ї–∞–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–µ, –∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–є —А–µ—Б—Г—А—Б. –Я—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Ї–∞ –ґ–µ –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –і–Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А —Б–Ї—А—Л—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, - —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б–µ–±—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ вАЬ—А–∞–±–Њ—В–Њ–і–∞—В–µ–ї–µ–ЉвАЭ. –Т–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –Є–≥—А–∞–µ—В –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П вАЬ–Ї–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–ЄвАЭ, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є–µ —Д–Є—А–Љ—Л —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–µ–±—П —Б –љ–µ–є.
–Ъ–Њ—А–њ–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ–∞—П –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В—М - –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П —А–µ–Ї–ї–∞–Љ–љ–Њ –≤—Л–Є–≥—А—Л—И–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–≤—П–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ —Д–Є—А–Љ—Л –і–ї—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П –Ј–∞–і–∞—З–∞ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–Ї–µ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є вАЬ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—ПвАЭ –Ї–∞–Ї –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л –і–ї—П –Њ—В–Њ–ґ–і–µ—Б—В–≤–ї–µ–љ–Є—П —Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б–µ–±—П —Б вАЬ—Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–Є–µ–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—ПвАЭ. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л—В—М –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–µ–љ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–є —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є–Є, –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—Й–Є–є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –љ—Г–ґ–љ—Л–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї.
–Ґ–Њ–є –ґ–µ —Ж–µ–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–∞—В –Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ вАЬ–Ї—А—Г–ґ–Ї–Є –Љ–Њ—В–Є–≤–∞—Ж–Є–ЄвАЭ –Є –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–і—А–Њ–≤ –≤–љ—Г—В—А–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є, –≥–і–µ –њ–µ—А–µ–і–∞—О—В—Б—П –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–љ–µ–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ш–Ј–ї—О–±–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В–µ–Љ–∞–Љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Љ, –љ–Њ –Є –≤ –±–µ—Б–µ–і–∞—Е –њ—А–Є –њ—А–Є–µ–Љ–µ –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г —Б–ї—Г–ґ–∞—В —В–∞–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї вАЬ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Ї–Њ–Љ–њ–µ—В–µ–љ—В–љ–Њ—Б—В—МвАЭ, вАЬ—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –≤ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–µвАЭ, вАЬ—В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї —Д—А—Г—Б—В—А–∞—Ж–Є–ЄвАЭ –Є–ї–Є вАЬ–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µвАЭ.
–Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –Њ—А–Є–µ–љ—В–∞—Ж–Є–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ вАЬ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—ПвАЭ –Є–≥—А–∞—О—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Г—З–∞—Б—В–Є—П –≤ –њ—А–Є–±—Л–ї—П—Е –Є–ї–Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.
–Ф—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –Љ–µ–і–∞–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ вАЬ–Љ–µ–љ–µ–і–ґ–Љ–µ–љ—В–∞ —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б—В—А–µ—Б—Б–∞вАЭ. –Я–Њ–і —Н—В–Є–Љ —В–µ—А–Љ–Є–љ–Њ–Љ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О—В –≤—Л–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –Љ–∞—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Љ–µ—Б—В —А–Њ—Б—В —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤—И—Г—О—Б—П —З–∞—Б—В—М –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞, —З—В–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–∞–µ—В –µ–µ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Є—Б–Ї–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ –Љ–µ—В–Њ–і—Л –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞, —З—В–Њ–±—Л –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є–Љ–µ—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–Њ—Б—В–Є—З—М –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є. –Ъ–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –љ–∞–і —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Л—Е —Ж–µ–ї–µ–є –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–і–µ—Б—М —Г–ґ–µ –љ–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞–Љ–Є, –∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Є–ї–Є –±—А–Є–≥–∞–і–Њ–є. –Я—А–Є —Н—В–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Њ–љ –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –ґ–µ—Б—В—З–µ, —З–µ–Љ —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞. –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–∞, —Б—В—А–∞—Е –њ–µ—А–µ–і —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–µ–є —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Є. –Ф–∞–ї–µ–µ, —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є вАЬ–і—Л—И–∞—Й–µ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–ЄвАЭ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–µ—В—Б—П —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–∞—П –≥–Є–±–Ї–Њ—Б—В—М —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ–Њ–і–≥–Њ–љ—П–µ—В—Б—П –њ–Њ–і —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Т –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–∞ —В—А—Г–і —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П —Б–≤–µ—А—Е—Г—А–Њ—З–љ–Њ, –±–µ–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Њ–њ–ї–∞—В—Л; –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –ї—О–і–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П—О—В—Б—П –≤ –Њ—В–≥—Г–ї—Л. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В: –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—П –і–ї—П –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П - —Б –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –љ–µ–≤—Л–њ–ї–∞—В–∞ —Б–≤–µ—А—Е—Г—А–Њ—З–љ—Л—Е –і–µ–љ–µ–≥, —Б –і—А—Г–≥–Њ–є - —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ–µ–≤.
–°–Є—Б—В–µ–Љ–∞ —В–Њ–є–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г–ґ–µ –љ–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Ї —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Б–Њ–±–Њ–є –љ–µ–њ—А–µ—А—Л–≤–љ—Г—О —А–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О. вАЬ—А–∞–і–Є–Ї–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О —В–µ–є–ї–Њ—А–Є–Ј–Љ–∞вАЭ –Є–ї–Є вАЬ—Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ, –≤–Њ–Ј–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–є –≤ —Б—В–µ–њ–µ–љ—МвАЭ (–Ь.–†–µ–≤–µ–ї–ї–Є. –Ю—В вАЬ—Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–∞вАЭ –Ї вАЬ—В–Њ–є–Њ—В–Є–Ј–Љ—ГвАЭ. // –Я—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї –ґ—Г—А–љ–∞–ї—Г вАЬSozialismus>вАЭ, 1997, вДЦ4).
–Т–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –љ–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤—Б—П –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є—П —В–Њ–є–Њ—В–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞ –Є–Љ–µ–µ—В –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г –Њ–њ–Њ—А—Г. –Ю–љ–∞ –±–∞–Ј–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–∞ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —В—А—Г–і–∞, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —П–і—А–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞–Љ–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–Њ–≤, –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е –Є–љ–і—Г—Б—В—А–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞—Е. (–Ш –Ј–і–µ—Б—М –Љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ—Б—П –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Б—В–∞–ї –Њ—Й—Г—Й–∞—В—М—Б—П –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ 2-3 –≥–Њ–і–∞).
–У–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –±—Л–ї —А–∞–љ—М—И–µ –Ј–∞–љ—П—В –љ–∞ —Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е, —Б—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Б —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–µ–є –Ї –њ—А–µ–Ї–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, —В–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–µ–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞–љ–љ–µ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –≤ –љ–µ–≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є –љ–µ–Ј–∞—Й–Є—Й–µ–љ–љ—Л–µ. –°—О–і–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Є–і—Л –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–і—А—П–і–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞, —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—В—А–∞–Ї—В –љ–∞ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л–є —Б—А–Њ–Ї, –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В—М –љ–∞ –љ–µ–њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є –Љ–∞–ї—Л—Е –Є–ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—П—Е, –Љ–љ–Є–Љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В—А—Г–і, —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –≤—Л–Ј–Њ–≤—Г –Є —В.–і. –°–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї—П–µ—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–∞ —В—А—Г–і–Њ–≤–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —П–≤–љ–Њ —Е—Г–ґ–µ –Њ–њ–ї–∞—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П. (–Т –°–®–Р –љ–Њ–≤–∞—П –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ—В–µ—А–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ –і–∞–µ—В –љ–∞ 14% –Љ–µ–љ—М—И–Є–є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Њ–Ї, —З–µ–Љ –њ—А–µ–ґ–љ—П—П. –Ґ—А–µ—В—М –≤—Б–µ—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –≥–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ –і–Њ—Е–Њ–і–Њ–Љ –Љ–µ–љ–µ–µ —З–µ–Љ –≤ 15 —В—Л—Б—П—З –і–Њ–ї–ї–∞—А–Њ–≤ –≤ –≥–Њ–і. - вАЬ–¶–∞–є—ВвАЭ, 1998, вДЦ49). –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —А–Њ—Б—В —Б–ї–Њ—П вАЬ—А–∞–±–Њ—В–∞—О—Й–Є—Е –±–µ–і–љ—Л—ЕвАЭ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –Є—Б–Ї–∞—В—М —Б–µ–±–µ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є, –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Л–µ.
–°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П–Љ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Њ—В —В–Є–њ–Є—З–љ—Л—Е —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є –Ї –љ–µ—В–Є–њ–Є—З–љ—Л–Љ (–Ъ.–•.–†–Њ—В). –Э–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –і–ї—П –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –њ—А–∞–≤–Њ–≤–Њ–Љ –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б - –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ - —А–µ–і–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Л—В–µ—Б–љ—П—О—В—Б—П —Д–Њ—А–Љ–∞–Љ–Є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–µ–ґ–і–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–∞–Ї –Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ —П–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –£–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —З–Є—Б–ї–Њ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –њ–µ—А–µ–±–Є–≤–∞—В—М—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ–Є –Ј–∞—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞–Љ–Є, —З–µ—А–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–Њ–є.
–Ю–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б—В–µ—В –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ—Б—П —А—П–і—Л –і–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –њ—А–Њ–µ–Ї—В–Њ–≤ вАЬ–њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –≤ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є —А–∞–±–Њ—В—ЛвАЭ –Є–ї–Є —Б–µ–Ј–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ—А–Є —Г–±–Њ—А–Ї–µ —Г—А–Њ–ґ–∞—П –≤ —Б–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ –њ—Л—В–∞—О—В—Б—П –њ—А–Є–љ—Г–і–Є—В—М –Ї —В—А—Г–і—Г –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞ –≤ –њ–Њ—Б–Њ–±–Є–Є.
–Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –љ–Њ–≤—Л—Е –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ (—В.–µ. –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ, - –њ—А–Є–Љ. –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і.) —А—Л–љ–Ї–µ —В—А—Г–і–∞ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П –љ–Њ–≤—Л–µ —Б—Д–µ—А—Л –≤ —Б–µ–Ї—В–Њ—А–µ —Г—Б–ї—Г–≥, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, вАЬ–∞–і—А–µ—Б–љ—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–ЄвАЭ. (–≠—В–Њ —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Ј –љ–µ–і–∞–≤–љ–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П вАЬ–Я—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–∞—П –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж–∞ –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є - –Љ–µ—А—Л –њ–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —Б –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В—М—ОвАЭ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є –њ–Њ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ –±—Г–і—Г—Й–µ–≥–Њ –С–∞–≤–∞—А–Є–Є –Є –°–∞–Ї—Б–Њ–љ–Є–Є. –Ґ–∞–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј —А–∞—Б—Е–≤–∞–ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ј–∞–љ—П—В–Њ—Б—В–Є –љ–∞ –±—Г–і—Г—Й–µ–µ, –Ї–∞–Ї вАЬ—Г—Б–ї—Г–≥–Є –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г –і–Њ–Љ—ГвАЭ –Є–ї–Є вАЬ—В–Њ—А—В–Њ–≤—Л–є —Б–µ—А–≤–Є—БвАЭ –Є вАЬ–њ—А–Њ—Б—В—Л–µ —Г—Б–ї—Г–≥–Є, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ—Л–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Є —Б—В–Є–ї–µ–Љ –ґ–Є–Ј–љ–ЄвАЭ).
–°–≤–µ—В –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —В—Г–љ–љ–µ–ї—П?
–Т –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ —Б—З–µ—В–µ, —П—Б–љ–Њ, –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –±—Г–і–µ—В –Є–і—В–Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≥–Њ–і—Л, –љ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–µ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±—Л –њ—А–Є–Љ—Г—В –њ—А–µ–Ї–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є –Њ–±–љ–Є—Й–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –≠—В–Њ –≤ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –ґ–µ, –Є –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –±—Г–і—Г—В –ї–Є —В–µ, –Ї—В–Њ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В —Н—В–Є–Љ –њ—А–Њ–і–≤–Є–≥–∞–µ–Љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–Љ, —В–µ—А–њ–µ—В—М –µ–≥–Њ, –Є–ї–Є –ґ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–µ—В —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ.
–Ф–ї—П –µ–≥–Њ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А–µ—И–∞—О—Й–µ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Г—З–µ—В –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ –≤ —В—А—Г–і–Њ–≤—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Г—Б–ї–Њ–≤–Є–є:
—Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е —Д–Њ—А–і–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–є —Д–∞–±—А–Є–Ї–Є;
–±–Њ–ї–µ–µ —Б–Є–ї—М–љ–∞—П –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ—П—П –≥—А–∞–і–∞—Ж–Є—П –Ї–ї–∞—Б—Б–∞ –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Ј–∞—В—А–Њ–љ—Г—В—Л –њ—А–µ–Ї–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є, —З—В–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–є –њ–Њ–ї—П—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є –≤ –і–Њ—Е–Њ–і–∞—Е;
—Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б (–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Є –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є) —Д–ї–µ–Ї—Б–Є–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–µ–є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –Ї –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г—О—Й–µ–є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –≤—Л—А–∞—Б—В–∞—О—Й–Є–µ –Є–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ –і–µ–ї–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–љ—Л—Е —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А;
–Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є, —П—Б–љ–Њ –Њ—З–µ—А—З–µ–љ–љ–Њ–є –∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤—Л –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ—Г –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П —Б —Н—В–Є–Љ —Г—В—А–∞—В–∞ –≤–µ—А—Л –≤ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О;
–±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —Г—П–Ј–≤–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞—И–Є–љ—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≤ –∞—Е–Є–ї–ї–µ—Б–Њ–≤–Њ–є –њ—П—В–µ —Б–µ—В–µ–є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –Є —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–∞.
–Т –Є–љ—В–µ—А–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–µ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ—В—Б—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞—Е –Љ–µ—В—А–Њ–њ–Њ–ї–Є–є —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ вАЬ–Ґ—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞вАЭ. –Ю–±—А–∞—В–љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –љ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В. –Т —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –њ–µ—А–Є—Д–µ—А–Є–Є, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ вАЬ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Ї–Њ–≤вАЭ. –Т —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е вАЬ–њ–Њ—В–Њ–≤—Л–ґ–Є–Љ–∞–ї–Ї–∞—ЕвАЭ –≤ —А–∞–љ–љ–µ-—В–µ–є–ї–Њ—А–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –≤–Ї–∞–ї—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ –Љ–Є—А–Њ–≤–Њ–є —А—Л–љ–Њ–Ї –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–µ—Б–њ—А–∞–≤–љ—Л–µ —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Є. –†–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ –і–∞–ґ–µ –Њ—В —Н—В–Є—Е вАЬ–±–ї–∞–≥вАЭ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є–Ј–Љ–∞ –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –њ–Є—В–∞—В—М—Б—П –Ї—А–Њ—И–Ї–∞–Љ–Є –Є –Њ—В–±—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –±–Њ–≥–∞—З–µ–є - –ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ –Є–ї–Є >–љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ.
–Э–Њ–≤—Л–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В?
–Ш—Б—Е–Њ–і—П –Є—Е –≤—Л—И–µ–њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —В–µ–њ–µ—А—М –Њ–±—А–∞—В–Є—В—М—Б—П –Ї –њ–Њ–Є—Б–Ї—Г –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞—И–Є—Е –Є–і–µ–є. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ —З–µ—В–Ї–Њ–µ —А–∞–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–ї–Њ–Є –≤–љ—Г—В—А–Є –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –±—Г–і–µ—В —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П –≤—Б–µ —В—А—Г–і–љ–µ–µ. –І–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ —Б—В–Є—А–∞–µ—В—Б—П –і–∞–ґ–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–µ–Љ–љ—Л–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є (—В–Њ –µ—Б—В—М, –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є). –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —А–∞—Б—В–µ—В —З–Є—Б–ї–Њ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Љ–љ–Є–Љ–Њ-—Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –Љ–µ–ї—М—З–∞–є—И–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Н–Ї—Б–њ–ї—Г–∞—В–∞—Ж–Є–Є –Є –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і, –Њ–і–љ–Њ–Ј–љ–∞—З–љ–Њ –љ–µ –≤—Л—П–≤–Є—В—М. –° –і—А—Г–≥–Њ–є, –Њ—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П —П–і—А–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤—Л —В–Њ–є–Њ—В–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞—О—В –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–∞ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ —З–µ—А–µ–Ј —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ—А–Є–±—Л–ї—П—Е –Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ (–Љ–∞—А–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ, –љ–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ!). –≠—В–Њ –≤–ї–Є—П–µ—В, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Є –љ–∞ –Є—Е —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ.
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —Н—В–Є—Е —П–і—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–Њ–≤ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П, –Є—Б—Е–Њ–і–Є—В—М –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–є –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–µ –Є—Е –ї–Є—И—М —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —В—А—Г–і–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є. –Ш–љ–∞—З–µ —Б—З–Є—В–∞—О—В, –Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Љ–∞—А–Ї—Б–Є—Б—В—Б–Ї–Є–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤—Б–µ –µ—Й–µ –≤–Є–і—П—В –≤ —П–і—А–Њ–≤—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є —Б—Г–±—К–µ–Ї—В. –Я–Њ –Є–љ–Њ–Љ—Г —Б—З–Є—В–∞–µ—В –Є –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є —В–µ–Њ—А–µ—В–Є–Ї –Р.–Э–µ–≥—А–Є. –Ю–љ —Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤ –љ–Њ–≤—Л—Е —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е, —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є –∞–љ–∞–ї–Є—В–Є–Ї–∞—Е —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤ - —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ вАЬ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–ЉвАЭ - –Ј–∞—А–Њ–і—Л—И –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–љ–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞—О—В —А–∞—Б—В—Г—Й–µ–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–µ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ–Љ–Њ–µ —Б–Ї—А—Л—В–Њ–є —Г–≥—А–Њ–Ј–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–Є, –љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є—А—Г–µ—В –Є –Є—Е –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Г–љ–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї—П–Љ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б–ї–µ–і—Г–µ—В —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –Њ–њ–∞—Б–∞—В—М—Б—П –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–Њ–≤–Њ–є —А–∞–±–Њ—З–µ–є –∞—А–Є—Б—В–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є, –ї–µ–≥–Ї–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤–Њ–є –Ї –њ—А–∞–≤—Л–Љ –Є–і–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П–Љ. (–Р–љ–і—А–µ –У–Њ—А—Ж –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ–Љ вАЬ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї-–њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Є–≤–Є—Б—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ-–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–Њ–і–µ—А–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–ЄвАЭ, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Є–Ј –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –Є вАЬ–Њ–±–ї–∞–і–∞—В–µ–ї–µ–є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е –Љ–µ—Б—ВвАЭ. –°–Љ. –Р.–У–Њ—А—Ж. –Ъ—А–Є—В–Є–Ї–∞ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—Г–Љ–∞. –У–∞–Љ–±—Г—А–≥, 1994). –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Є—Б—З–µ–Ј–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ—Л –Є–ї–Є, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –µ–µ —З–∞—Б—В–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г (–Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—Г, - –њ—А–Є–Љ. –њ–µ—А–µ–≤.) –ґ–µ–ї–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–∞ –і–ї—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ–є –Њ–њ—В–Є–Љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ - –∞ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞—В—М –Є—Е –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ-—Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ї–Њ–≥–Є–Ї–µ.
–Э–Њ –Є –≤ —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Љ–∞—Б—Б–Њ–є –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ –љ–µ–≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В—Л—Е –Є–ї–Є —Б —В–µ–Љ–Є, –Ї—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ –Є–Ј –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є—П —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є—П –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ –≥–∞—А–∞–љ—В–Є—А—Г–µ—В —Г—Б–њ–µ—Е. –†–∞—Б—В—Г—Й–∞—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—П / –і–µ—Б–Њ–ї–Є–і–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—П –Є –њ–Њ—З—В–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Г–≥–∞—Б—И–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –±–Њ—А—М–±—Л –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Є –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є —Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞–µ–Љ–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–ґ—Г—Й–∞—П—Б—П –±–µ–Ј–∞–ї—М—В–µ—А–љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ—В–љ—О–і—М –љ–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤—Г—О—В —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—О –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–≥–Њ –Є –±–Њ–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є—П. –Ъ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–±–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–∞–Ј—А—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —В—А—Г–і–Њ–≤–Њ–є —Н—В–Є–Ї–Є, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ —А–∞–±–Њ—З–µ–Љ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є –Љ–Њ–±–Є–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–љ—Л—Е. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –ї—О–±—Г—О –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е –Њ—В –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ —Б—Д–µ—А–∞—Е –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ –±—Л –Љ–∞–ї—Л–Љ –≤–љ–∞—З–∞–ї–µ –љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В. (–Ґ–∞–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є –і–ї—П –≤—Б–µ –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –ї—О–і–µ–є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–ґ–µ –љ–µ —А–∞–±–Њ—З–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —З–∞—Б—В–Њ –Љ–µ–љ—П–µ—В—Б—П –Є –љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ, –∞ —Б–Ї–Њ—А–µ–µ –±–Є—А–ґ–∞ —В—А—Г–і–∞, —Б–Њ—Б–µ–і—Б–Ї–Њ–µ –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Є —В.–і.). –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б–Є–љ–і–Є–Ї–∞–ї–Є—Б—В—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е –±–Њ—А—М–±—Л, —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–∞–Ї –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є–µ —А–∞–±–Њ—В—Л, —Б–∞–±–Њ—В–∞–ґ, –±–Њ–є–Ї–Њ—В –Є —В.–і. –Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Д—Б–Њ—О–Ј–Њ–≤, –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –љ–µ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±–Њ–ї—М—И–µ–≥–Њ –Ї—Г—Б–Ї–∞ –њ–Є—А–Њ–≥–∞, –∞ –±–Њ—А—М–±–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —В—А—Г–і–∞, —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —А–∞–±–Њ—З–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—П –ґ–Є–Ј–љ–Є –Ї–∞–Ї —В—А—Г–і–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Є –±–µ–Ј—А–∞–±–Њ—В–Є—Ж–µ–є.
–Ъ–∞–Ї —А–∞–Ј —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–∞—П –∞—Е–Є–ї–ї–µ—Б–Њ–≤–∞ –њ—П—В–∞ —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б—В–∞—В—М –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї–Њ–Љ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –і–ї—П —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ –Є–Ј –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ч–і–µ—Б—М –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л —В–Њ—З–µ–Ї —Б–Њ–њ—А–Є–Ї–Њ—Б–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П (–Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г, –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Ј–∞–±–∞—Б—В–Њ–≤–Њ—З–љ—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є —Б –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –±–ї–Њ–Ї–∞–і –Є —В.–і.) –і–ї—П —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±—Л —Б —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Н—В–Є—Е –Њ—В—А–∞—Б–ї–µ–є.
–Ґ–Њ—З–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–∞–ґ–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Є –±–Њ—А—М–±—Л –≤ —Б—Д–µ—А–µ –њ–Њ–і—А—П–і–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, —Г –љ–∞—Б –љ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–µ –њ—Г—В–Є –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Њ–±–і—Г–Љ–∞—В—М –≤—Б–µ –љ–∞—И–Є –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –њ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М –Є—Е —Б —Г—З–µ—В–Њ–Љ –љ–Њ–≤—Л—Е –Ј–љ–∞–љ–Є–є –Є –Њ–њ—Л—В–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л –Ј–∞—В–µ–Љ —Б–љ–Њ–≤–∞ –±—Л—В—М —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В—Л –љ–Њ–≤–Њ–є —Г—В–Њ–њ–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А—Г–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –±–µ–Ј —А—Л–љ–Ї–∞, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞ –Є –Њ—В—Г–њ–ї—П—О—Й–µ–≥–Њ (–љ–∞–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ, –Њ—В—З—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ) —В—А—Г–і–∞
–Я—Г–±–ї–Є–Ї—Г–µ—В—Б—П —Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є –њ–Њ: вАЬDirekte Aktion>вАЭ, вДЦ131, —П–љ–≤–∞—А—М-—Д–µ–≤—А–∞–ї—М 1999 –≥
-

frezer - –°—Г–њ–µ—А –Ѓ–Ј–µ—А
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 1146
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Я–љ –Љ–∞–є 21, 2007 12:57 pm
- –Ю—В–Ї—Г–і–∞: –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
–Э–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ —В–µ–Љ–µ, –љ–Њ...
–Ы—М—О–Є—Б –Ь–∞–Љ—Д–Њ—А–і
–Ь–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Є—В–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є
http://scepsis.net/library/id_938.html
–Ы—М—О–Є—Б –Ь–∞–Љ—Д–Њ—А–і
–Ь–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Є—В–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є
http://scepsis.net/library/id_938.html
-

frezer - –°—Г–њ–µ—А –Ѓ–Ј–µ—А
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 1146
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Я–љ –Љ–∞–є 21, 2007 12:57 pm
- –Ю—В–Ї—Г–і–∞: –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
frezer –њ–Є—Б–∞–ї(–∞):–Э—Г –Є –љ–∞ –њ–Њ–≥–Њ–љ—Л: http://aitrus.info/node/203
–Я—А–Њ—З–Є—В–∞–ї –љ–µ –±–µ–Ј –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–∞, –љ–Њ –љ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї —В–∞–Љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ–±—Й–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞ –љ–∞ –Љ–Є—А –∞–љ–∞—А—Е–Њ-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞.
–Ю–њ—П—В—М –≤—Б—С –Ї—А—Г—В–Є—В—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–∞, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Є –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ —Н—В–Њ—В –Ј–ї–Њ–≤—А–µ–і–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї –≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –љ–∞—А–Є—Б–Њ–≤–∞–ї—Б—П. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П –∞–љ–∞—А—Е–Є—Б—В–∞ –У–µ–Њ—А–≥–∞ –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В —Б–Є–ї—М–љ–µ–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –±—Г—А–ґ—Г–µ–≤.
–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –∞–љ–∞—А—Е–Є–Ј–Љ–∞ –≤ —Б–Ї–Њ–ї—М-–ї–Є–±–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Њ–Љ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Є–Љ–Є –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ–Є.
–Ф–ї—П –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј 1000 –і–µ—В–µ–є, —А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л—Е –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л—Е, –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е.
–Я—Г—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—В–Њ–Є—В –Ј–∞–і–∞—З–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М (—А–∞–Ј —Г–ґ –Љ—Л –њ—А–Њ –§–Њ—А–і–∞ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї–Є). –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –і–µ—В–Є –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є –Є –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –±—Г–і–µ—В –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–∞—П:
–Ш–Ј 1000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї:
- —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ –Њ–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л 980 (–≤—Б–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П);
- —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –∞–≤—В–Њ–Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ —Б–Љ–Њ–≥—Г—В 850 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (–≤—Б–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Є–Љ–µ—О—Й–Є—Е –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –Є –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В);
- —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ —Б–Љ–Њ–≥—Г—В 100 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї (–≤—Б–µ, –Є–Љ–µ—О—Й–Є–µ –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В –≤—Л—И–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ);
- —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ–Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞–Љ–Є –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ —Б–Љ–Њ–≥—Г—В 10 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї;
- –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–Є—В—М –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –ї–Є—И—М 1 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.
–Ш–Ј —В—Л—Б—П—З–Є вАУ –Њ–і–Є–љ! –Ю—Б—В–∞–≤—И–Є–µ—Б—П 999 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥—Г—В –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞, –Ї–∞–Ї –±—Л –Њ–љ–Є –љ–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М, –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –љ–Є —Г—З–Є–ї–Є—Б—М, –њ—А–Є –ї—О–±–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є. –І–Є—Б—В–Њ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –Љ–Њ–Ј–≥–Њ–≤ –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В!
–Ъ–∞–Ї —В—Л –і—Г–Љ–∞–µ—И—М, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—Б—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –±–ї–∞–≥–∞ –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ —Б–њ—Г—Б—В—П 10-20-30 –ї–µ—В? –Р —Б–њ—Г—Б—В—П –і–≤–∞ –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П? –Э—Г, —В—Л –њ–Њ–љ—П–ї, –љ–∞–і–µ—О—Б—М, –Ї —З–µ–Љ—Г —П –Ї–ї–Њ–љ—О. –Ы—О–±–Њ–µ, –і–∞–ґ–µ –Є–Ј–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ —Б–∞–Љ–Њ–µ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ–µ, –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ —Г–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј 1-2 –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є—П —Б–Ї–∞—В–Є—В—Б—П –Ї –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤—Г –≤ —Б–Є–ї—Г –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –ї—О–і–µ–є. –Ґ—Л –Љ–Њ–ґ–µ—И—М –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –ї—О–±—Г—О —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ —В—Л –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—И—М –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–∞–ї–∞–љ—В—Л, –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –љ–∞–і –і—А—Г–≥–Є–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–µ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –ї—О–і–µ–є –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г–µ—В –і–ї—П —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ—Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П.
–Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Ј–∞—А–Њ–ґ–і–∞–ї—Б—П –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї, –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–∞–ї–∞—Б—М –ї—О–±–∞—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М - —Г –Є—Б—В–Њ–Ї–Њ–≤ —Б—В–Њ—П–ї–Є –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї –Є —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М, –љ–Њ —В—Л –ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—И—М –љ–∞ –±—Л–ї—Л—Е –њ—А–Є–Љ–µ—А–∞—Е, –≤–Њ —З—В–Њ —Н—В–Њ –Ї–∞–ґ–і—Л–є —А–∞–Ј –±—Г–і–µ—В –≤—Л–ї–Є–≤–∞—В—М—Б—П. –Ґ–∞–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—В—М—Б—П –љ–µ –±—Г–і–µ—В, –і–∞ –Є –≥–µ–љ–Њ—Д–Њ–љ–і –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Њ–±–µ–і–љ–µ–µ—В –Є–Ј—А—П–і–љ–Њ.
–Ю—И–Є–±–Ї–∞ –∞–љ–∞—А—Е–Њ-–Ї–Њ–Љ–Љ—Г–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ –њ—А–Є —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –ї—О–і–Є –љ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П, –∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –Њ—В–ї–Є—З–Є—П –Љ–µ–ґ–і—Г –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–Љ–Є –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–љ–Є–µ–Љ, –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Є –њ—А–Њ—З–Є–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–Є –≤—Л—А–Њ—Б–ї–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, —Н—В–Њ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–∞–Ї, —Г–≤—Л.
–Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —В–∞–Ї –Є –ґ–Є–≤—С–Љ. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≤—Л—Е–Њ–і –Є–Ј —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —П –≤–Є–ґ—Г –≤ –Э–Ґ–Я, —Г—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ—В –Љ–Њ–љ–Њ—В–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞ –Є –≤ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –≤ –Є–љ—Л–µ —Д–Њ—А–Љ—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П.
–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є —А–∞–Ј —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М TOSвДҐ –°—А –∞–≤–≥ 07, 2013 16:02 pm, –≤—Б–µ–≥–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Њ—Б—М 1 —А–∞–Ј.
-

TOSвДҐ - –Ю–љ –Ј–і–µ—Б—М –ґ–Є–≤–µ—В...
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 12615
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Т—Б –Є—О–љ 22, 2008 0:00 am
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
frezer –њ–Є—Б–∞–ї(–∞):–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–ґ–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1960-—Е –Є –≤ 1970-—Е –≥–≥. –≤—Л—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ вАУ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ—В —А–Њ—Б—В –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї—Б—П, –±–Њ—А—М–±–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–Њ—Б—В—А–Є–ї–∞—Б—М.
–Т–Њ—В, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ї–ї—О—З–µ–≤–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–µ —П –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В–Њ–ї—М —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ –і–ї—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –∞ —В—Г–њ–Њ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Э–µ—А–≤–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≤ –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–µ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞ –Ї —Б—В–∞—В–Є–Ї–µ –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–µ–∞–≥–Є—А—Г–µ—В –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є–Ї—Г –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–µ–є, –Њ–љ–∞ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–∞–Ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞. –°—Г–љ—М —А—Г–Ї—Г –њ–Њ–і –Ї—А–∞–љ —Б —В—С–њ–ї–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є - –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —В—Л –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–љ–µ—И—М –Њ—Й—Г—Й–∞—В—М –µ—С —В–µ–њ–ї–Њ. –£–≤–µ–ї–Є—З—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Г –≤–Њ–і—Л - –њ—А–Є–і—Г—В –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П —В–µ–њ–ї–∞, –љ–Њ –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ш —В–∞–Ї –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–є —В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ—Л—В—М—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ–є –і–∞–љ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О.
–Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –ґ–Є—В—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ, –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —В—А–µ–љ–і–µ, –Є–і—В–Є –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П –≤–≤–µ—А—Е. –Я—Г—Б—В—М —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–є, –љ–Њ, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ - —А–Њ—Б—В!
–°—З–∞—Б—В—М–µ - —Н—В–Њ –Ї–∞–ї–µ–є–і–Њ—Б–Ї–Њ–њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є! –≠—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Ї–∞–Ї –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є –љ–∞—А–∞—Й–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—Л—Е (–Ї–∞–Ї –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —Б –≤–Њ–і–Њ–є). –Ъ—В–Њ-—В–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–Ј—А–∞—Й–Є–≤–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Ї—В–Њ-—В–Њ –Њ—В–і–∞—С—В –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —А–Њ—Б—В—Г, –Ї—В–Њ-—В–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Б–Њ—З–µ—В–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—Г—В–µ–є, –љ–Њ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞—Е –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б—Г—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Њ–і–љ–∞ –Є —В–∞ –ґ–µ, —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є –Ї–ї—О—З–Є–Ї –і–ї—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–Ј–≥–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –µ—Б–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –Ї—А—Г—В–Њ –≤–Њ–Ј—М–Љ—С—И—М, –µ—Б–ї–Є "...—В–∞–Ї–Њ–є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є, –∞ —Г–ґ–µ "–Ц–Є–≥—Г–ї–Є"!"(—Б), —В–Њ —Б–Є–ї –Є —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –і–ї—П —А–Њ—Б—В–∞ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В—М, –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–љ–µ—З–µ–љ. –Р –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–Њ—Б—В–Њ–Љ —Г–є–і—С—В –Є —Б—З–∞—Б—В—М–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –Њ–љ–Є –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–є "–Ї–∞–ї–µ–є–і–Њ—Б–Ї–Њ–њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є" –±—Л—Б—В—А–µ–µ, —З–µ–Љ —Б—Г–Љ–µ–ї–Є —Г–Љ–µ—А–µ—В—М, –∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–Љ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ...
-

TOSвДҐ - –Ю–љ –Ј–і–µ—Б—М –ґ–Є–≤–µ—В...
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 12615
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Т—Б –Є—О–љ 22, 2008 0:00 am
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
frezer –њ–Є—Б–∞–ї(–∞):–Э–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ–Њ —В–µ–Љ–µ, –љ–Њ...
–Ы—М—О–Є—Б –Ь–∞–Љ—Д–Њ—А–і
–Ь–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–Є—В–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є
http://scepsis.net/library/id_938.html
"–†–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–∞ вАУ –њ—А–Є–љ—П—В–Є–µ –њ–Є—Й–Є –Є –≤—Л–≤–Њ–і –њ—А–Њ–і—Г–Ї—В–Њ–≤ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞ вАУ —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–µ—В –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –і–Њ—Б—Г–≥–µ, –Њ —А–∞–Ј–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П—Е, –Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤—Л—Е —Б–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е, –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–∞ –і–µ–ї–∞—В—М –≤—Б–µ –њ–Њ —З–∞—Б–∞–Љ –Є –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–Ї—Г–Ї—Г –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П –њ–∞–≥—Г–±–љ–Њ–є."
–Э—Г –і–∞, –≤—Б—С –Њ —В–Њ–Љ –ґ–µ. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–∞ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–∞...
-

TOSвДҐ - –Ю–љ –Ј–і–µ—Б—М –ґ–Є–≤–µ—В...
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 12615
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Т—Б –Є—О–љ 22, 2008 0:00 am
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
TOSвДҐ –њ–Є—Б–∞–ї(–∞):frezer –њ–Є—Б–∞–ї(–∞):–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–ґ–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1960-—Е –Є –≤ 1970-—Е –≥–≥. –≤—Л—П–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–∞ –≤ —А–∞–Љ–Ї–∞—Е ¬Ђ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞¬ї –Љ–Њ–ґ–µ—В —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –ї–Є—И—М –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е —Б—В–∞–±–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞ вАУ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї –≤ –≤–µ–і—Г—Й–Є—Е –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В—Л—Е —Б—В—А–∞–љ–∞—Е –≤ –њ–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є—П. –Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–Њ—В —А–Њ—Б—В –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–Є–ї—Б—П, –±–Њ—А—М–±–∞ –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П –Њ–±–Њ—Б—В—А–Є–ї–∞—Б—М.
–Т–Њ—В, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –Ї–ї—О—З–µ–≤–Њ–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–µ —П –Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В–Њ–ї—М —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ –і–ї—П –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ј–∞–Љ–µ–і–ї–µ–љ–Є–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞.
–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –љ–µ—Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –∞ —В—Г–њ–Њ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Э–µ—А–≤–љ–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ –≤ –љ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —А–µ–ґ–Є–Љ–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–µ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–∞ –Ї —Б—В–∞—В–Є–Ї–µ –Є –≤—Б–µ–≥–і–∞ —А–µ–∞–≥–Є—А—Г–µ—В –љ–∞ —Б—В–∞—В–Є–Ї—Г –і–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–µ–є, –Њ–љ–∞ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В–∞–Ї —Г—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞. –°—Г–љ—М —А—Г–Ї—Г –њ–Њ–і –Ї—А–∞–љ —Б —В—С–њ–ї–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є - –Є —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —В—Л –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–љ–µ—И—М –Њ—Й—Г—Й–∞—В—М –µ—С —В–µ–њ–ї–Њ. –£–≤–µ–ї–Є—З—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Г –≤–Њ–і—Л - –њ—А–Є–і—Г—В –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П —В–µ–њ–ї–∞, –љ–Њ –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ. –Ш —В–∞–Ї –і–Њ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞ –±–Њ–ї–µ–≤–Њ–є —В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Њ —Н—В–Њ —Г–ґ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П. –Ъ–∞–ґ–і—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ –≤–∞–љ–љ–Њ–є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Љ—Л—В—М—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞–і —Б–Њ–±–Њ–є –і–∞–љ–љ—Л–є –Њ–њ—Л—В, –љ–Њ –љ–Є–Ї—В–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ —Б –ґ–Є–Ј–љ—М—О.
–Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –ґ–Є—В—М —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤–Њ, –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —В—А–µ–љ–і–µ, –Є–і—В–Є –њ–Њ –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –Є –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П –≤–≤–µ—А—Е. –Я—Г—Б—В—М —Н—В–Њ –±—Г–і–µ—В –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ—Л–є, –љ–Њ, –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ - —А–Њ—Б—В!
–°—З–∞—Б—В—М–µ - —Н—В–Њ –Ї–∞–ї–µ–є–і–Њ—Б–Ї–Њ–њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є! –≠—В–Њ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Ї–∞–Ї –љ–Њ–≤—Л–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П, —В–∞–Ї –Є –љ–∞—А–∞—Й–Є–≤–∞–љ–Є–µ —Б—В–∞—А—Л—Е (–Ї–∞–Ї –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А–µ —Б –≤–Њ–і–Њ–є). –Ъ—В–Њ-—В–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–Ј—А–∞—Й–Є–≤–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є—П —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Ї—В–Њ-—В–Њ –Њ—В–і–∞—С—В –њ—А–µ–і–њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ –і—Г—Е–Њ–≤–љ–Њ–Љ—Г —А–Њ—Б—В—Г, –Ї—В–Њ-—В–Њ —Г—Б–њ–µ—И–љ–Њ —Б–Њ—З–µ—В–∞–µ—В –≤ —Б–µ–±–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—Г—В–µ–є, –љ–Њ –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—П –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞—Е –љ–∞ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Б—Г—В—М –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Њ–і–љ–∞ –Є —В–∞ –ґ–µ, —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ —Б–≤–Њ–є –Ї–ї—О—З–Є–Ї –і–ї—П —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–Ј–≥–∞.
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –µ—Б–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –Ї—А—Г—В–Њ –≤–Њ–Ј—М–Љ—С—И—М, –µ—Б–ї–Є "...—В–∞–Ї–Њ–є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є, –∞ —Г–ґ–µ "–Ц–Є–≥—Г–ї–Є"!"(—Б), —В–Њ —Б–Є–ї –Є —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –і–ї—П —А–Њ—Б—В–∞ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В—М, –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–љ–µ—З–µ–љ. –Р –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–Њ—Б—В–Њ–Љ —Г–є–і—С—В –Є —Б—З–∞—Б—В—М–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –Њ–љ–Є –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–є "–Ї–∞–ї–µ–є–і–Њ—Б–Ї–Њ–њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є" –±—Л—Б—В—А–µ–µ, —З–µ–Љ —Б—Г–Љ–µ–ї–Є —Г–Љ–µ—А–µ—В—М, –∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–Љ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ...
–Ґ–Њ –µ—Б—В—М —В—Л –Њ–њ—П—В—М –≤–Њ–Ј–≤—С–ї –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤—Г —Г–≥–ї–∞ –Є —А–∞—Б—В–Њ–њ—В–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Ї–∞–Ї —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ? –Х—Б–ї–Є —П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї. –Э—Г —В–Њ–≥–і–∞ –ї–Њ–≤–Є: –У–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/7836 ... 0%BA%D0%B0
–Є —Н—В–Њ: –Т–ї–Є—П–љ–Є–µ –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–∞ –Є —Б—А–µ–і—Л –љ–∞ —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ http://www.medbiol.ru/medbiol/genetic_sk/0000a121.htm
–∞ –≤–Њ—В —Г–ґ –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–µ –Ї–Є–љ–Њ: –Ы–µ–≤–Њ–љ—В–Є–љ –†. –£–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є // –Я—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–є / –Я–Њ–і —А–µ–і. –Ѓ. –С. –У–Є–њ–њ–µ–љ—А–µ–є—В–µ—А, –Т. –ѓ. –†–Њ–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞. –Ь., 2000. —Б http://do.gendocs.ru/docs/index-294301.html
–Х—Й—С –Њ –љ—С–Љ: –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Э–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б—А–µ–і–∞.
–Ы–µ–≤–Њ–љ—В–Є–љ –†.
–І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М. –Э–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б—А–µ–і–∞.
–Т –Ї–љ–Є–≥–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–≥–Њ—Б—П –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –≤ –љ–∞—Г—З–љ–Њ-–њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –≤–Њ–Ј–Ј—А–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є, —А–Њ–ї—М –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–Њ-—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—А–µ–і—Л –≤ —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–µ–є, –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤. http://ru.bookos.org/book/719193/6ec9bd
–Я—А–Њ—Й–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П –і–ї—П —В–µ—Е –Ї—В–Њ –Ј–∞—Б—Г–љ–µ—В –≤–Ј–≥–ї—П–і –≤ —Н—В—Г –≤–µ—В–Ї—Г, –љ–Њ –љ–µ –і–ї—П —В–µ–±—П —Г–ґ —В–Њ—З–љ–Њ, —П –љ–∞–і–µ—О—Б—М: –Х—Б—В—М —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –≤ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М. –§–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –µ—Б—В—М –Є–Ј–Љ–µ–љ—З–Є–≤–Њ—Б—В—М —Н—В–Њ –±–∞–Ј–∞ –і–ї—П –∞–і–∞–њ—В–∞—Ж–Є–Є.
–У–µ–љ–Њ—В–Є–њ ( –∞ —В–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –≥–µ–љ—Л –µ—Й—С –Є –њ–Њ–і–≤–µ—А–ґ–µ–љ—Л –Љ—Г—В–∞—Ж–Є–Є –Є —З—В–Њ —В–∞–Љ –њ—А–Њ–є–і—С—В –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –±–∞–Ї—В–µ—А–Є–Њ—Д–∞–≥–∞...) –љ–µ –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ –љ–Њ –Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Њ –і–ї—П –∞–і–∞–њ—В–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–µ–є —Б—А–µ–і—Л.
–Ф–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ—Б–ї–Є —З–∞—Б—В—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –њ–µ—А–µ–љ–µ—Б–ї–Є –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П —Г —Н—В–Њ–є —З–∞—Б—В–Є "–≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є" –љ–Њ–≤—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –±—Л –њ—А–Є –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–µ –≤ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Љ–∞–љ–Є–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л—В—М –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ—Л –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤–∞–ї–µ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ-–і–≤—Г—Е –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–є. —В.–Ї. –≤ –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–±–Њ—А–∞, —В.–µ. –≤—Л–ґ–Є–≤–∞—О—В –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –∞–і–∞–њ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ —В.–µ. –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—Й–Є–µ —В—А–µ–±—Г–µ–Љ—Л–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є. –Ґ—Г—В –љ–µ –љ–∞–і–Њ –і–µ–ї–∞—В—М –ґ—С—Б—В–Ї–Њ–є –њ—А–Є–≤—П–Ј–Ї–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г –Є–ї–Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є - –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤ –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л–Љ –Њ–њ—Л—В–Њ–Љ –Є —В—Г—В –ґ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г—П–Ј–≤–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –≤—Б–µ–њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–∞ –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ–∞ ( –љ—Г –љ–µ –µ—Б—В—М –Љ—Л - –ї—О–і–Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–љ–Є–Ї–Є "—З–Є—Б—В–Њ–є –ї–Є–љ–Є–Є").
–Э–µ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–љ—Л—И–µ–є –љ–µ –≤ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є —Б—В–∞—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤–љ–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ "–Њ–њ—Л—В—Л" –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —З—В–Њ —Н—В–Њ –і–µ—В–µ–љ—Л—И —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ —Б—В–∞—В—М —Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є –Є –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ–Њ–є. –Э–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—О —Б–Њ–±–∞—З—М–Є—Е –Є –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ—М–Є—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–і–∞—В—М "—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Г—О –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О" = —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —Б–Њ–±–∞—З—М—О –Є–ї–Є –Њ–±–µ–Ј—М—П–љ—М—О –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–Ї —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞. –І–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –і–µ—В–µ–љ—Л—И –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ –Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е –њ—А–Є—А–Њ–і–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е.
–Ч–∞—В–Њ –Њ–љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–µ–љ "—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М—Б—П" –Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В—М –Њ–±—А–∞–Ј –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤ –ї—О–±–Њ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ (–і–∞–ґ–µ –љ–µ—З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ).
–Ш –µ—Б–ї–Є —В—Л –≤—Б–µ —Н—В–Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П —В–∞–Ї–Є —Г–≤—П–Ј–∞–ї, —В–Њ –≤—Л—И–µ —В–Њ–±–Њ–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В –Њ–Њ–Њ–Њ–Њ–Њ—З–µ–љ—М —Б–ї–∞–±–µ–љ—М–Ї–Њ —В–∞–Ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –њ—А–∞–≤–і—Г, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –≤ —З–∞—Б—В–Є –Љ–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є—П –Є –њ—А–Є–Ї–ї–µ–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –љ–µ—А–≤–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –Є –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ї–∞–Ї —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї—О—З–∞ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—В–≤–µ—В–∞–Љ. –Ш –Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є –ї–µ–Ј—Г—В –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ (–Є –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ) —П–≤–ї–µ–љ–Є—П, —В–Њ —Н—В–Њ –њ–∞—Е–љ–µ—В –љ–µ—А–∞–Ј—Г–Љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ.
-

frezer - –°—Г–њ–µ—А –Ѓ–Ј–µ—А
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 1146
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Я–љ –Љ–∞–є 21, 2007 12:57 pm
- –Ю—В–Ї—Г–і–∞: –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
–Ь–Њ–ґ–µ—В —П —В—Г—В –≤ –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–µ –Є –Љ–∞–ї–Њ—Б—В—М –љ–∞–Ї–Њ—Б—П—З–Є–ї –≥–і–µ, –љ–Њ —Г–ґ —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ. –Ц–і—Г –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. 
–Ш –µ—Й—С - —П –±—Л –љ–µ —Б—В–∞–ї —В–∞–Ї —Б–Љ–µ–ї–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–љ–∞–Ї —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞—Г–Ї–Њ–є –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є –µ—С –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –≤ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–µ. –Ь–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –ї–µ–ґ–Є—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–є. –Ґ—Л –ґ–µ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є –Њ —В–Њ–Љ, –љ–∞ —З—С–Љ –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –љ–∞—Г–Ї–∞ –Є –Ї–∞–Ї —В–∞–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї—Г –љ–∞ "–≤—И–Є–≤–Њ—Б—В—М" —В–µ–Њ—А–Є–Є –Є –Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Г–ґ–µ –±—Г–і–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –≤–Ј—П—В–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –±—Л "–≤—Б–µ–Љ" —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ...
–Ш –µ—Й—С - —П –±—Л –љ–µ —Б—В–∞–ї —В–∞–Ї —Б–Љ–µ–ї–Њ —Б—В–∞–≤–Є—В—М –Ј–љ–∞–Ї —А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞—Г–Ї–Њ–є –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–њ–ї–Њ—Й–µ–љ–Є—П–Љ–Є –µ—С –њ–ї–Њ–і–Њ–≤ –≤ —В–µ—Е–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–µ. –Ь–µ–ґ–і—Г –љ–Є–Љ–Є –ї–µ–ґ–Є—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–є. –Ґ—Л –ґ–µ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є –Њ —В–Њ–Љ, –љ–∞ —З—С–Љ –і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –љ–∞—Г–Ї–∞ –Є –Ї–∞–Ї —В–∞–Љ –њ—А–Њ—Е–Њ–і—П—В –њ—А–Њ–≤–µ—А–Ї—Г –љ–∞ "–≤—И–Є–≤–Њ—Б—В—М" —В–µ–Њ—А–Є–Є –Є –Є—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Є —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –і—А—Г–≥–Є–Љ —Г–ґ–µ –±—Г–і–µ—В —В–Њ, —З—В–Њ –±—Г–і–µ—В –≤–Ј—П—В–Њ –љ–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї –±—Л "–≤—Б–µ–Љ" —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–Њ–Љ...
-

frezer - –°—Г–њ–µ—А –Ѓ–Ј–µ—А
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 1146
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Я–љ –Љ–∞–є 21, 2007 12:57 pm
- –Ю—В–Ї—Г–і–∞: –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
frezer –њ–Є—Б–∞–ї(–∞):–Ґ–Њ –µ—Б—В—М —В—Л –Њ–њ—П—В—М –≤–Њ–Ј–≤—С–ї –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤—Г —Г–≥–ї–∞ –Є —А–∞—Б—В–Њ–њ—В–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Ї–∞–Ї —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ? –Х—Б–ї–Є —П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї.
–Э–µ—В, –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї. –ѓ –ґ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї: "—А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј 1000 –і–µ—В–µ–є, —А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л—Е –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л—Е, –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е", —З—В–Њ–±—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–Є –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П (–Њ–љ—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞). –Х—Б–ї–Є –Љ—Л –≤ —А–Њ–і–і–Њ–Љ–µ –≤–Њ–Ј—М–Љ—С–Љ 1000 –і–µ—В–µ–є –Є –Є–Ј–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ –Є—Е –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –≤—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –±—Г–і—Г—В –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –У–∞—Г—Б—Б–∞ –Є –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ (—В–∞–Ї–Є–Љ –Ї–∞–Ї –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В) –≤ –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ —В—Л—Б—П—З–Є —А–∞–Ј. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–±—С–љ–Ї—Г –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –і–∞—С—В—Б—П –Є–≥—А–∞—О—З–Є, –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ—Б–≤–Њ–Є—В—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Ґ.–µ. –і–∞–ґ–µ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤—И–µ–Љ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л–µ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–≤, –±—Г–і–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ (—В–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Б—Г—А–Њ–≤–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–µ –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є—В—Б—П –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –ї—О–±–Њ–є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї –≤ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Љ —Г–Љ–µ), –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Г–ґ–µ –≤–Њ 2-3 –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–љ–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є—В—Б—П –≤ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ.
–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Њ–љ—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞, —В–Њ –Њ–љ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є–≥—А–∞–µ—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –њ—А–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –§–µ–љ–Њ—В–Є–њ = –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞ + –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л (–Њ–љ—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј, –≤—Б—П–Ї–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П). –Э–Њ —В–≤–Њ–Є —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Њ–є –Є –µ—Б–ї–Є —Г —В–µ–±—П —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–Є–Ј–Ї–Є–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В, –≤—Л—В—П–љ—Г—В—М —В–µ–±—П –≤—Л—И–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П –±—Г–і–µ—В –љ–µ –њ–Њ–і —Б–Є–ї—Г –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ.
–У–ї–∞–≤–љ–∞—П –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ—С–Љ –Њ–і–Є–љ –Є–Љ–µ–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ –±–ї–∞–≥, —З–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є, –љ–Њ –≤ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—П —Н—В–Є–Љ–Є –±–ї–∞–≥–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –±–µ—Б—В–∞–ї–∞–љ–љ—Л–є —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї –Є–Ј –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є –±—Г–і–µ—В –љ–∞–і–µ–ї—С–љ –Є–Љ–Є —Г–ґ–µ —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±—С–љ–Ї–∞ –Є–Ј —А–∞–±–Њ—З–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є.
-

TOSвДҐ - –Ю–љ –Ј–і–µ—Б—М –ґ–Є–≤–µ—В...
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 12615
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Т—Б –Є—О–љ 22, 2008 0:00 am
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
TOSвДҐ –њ–Є—Б–∞–ї(–∞):
–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –µ—Б–ї–Є —Б—А–∞–Ј—Г –Ї—А—Г—В–Њ –≤–Њ–Ј—М–Љ—С—И—М, –µ—Б–ї–Є "...—В–∞–Ї–Њ–є –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Є–є, –∞ —Г–ґ–µ "–Ц–Є–≥—Г–ї–Є"!"(—Б), —В–Њ —Б–Є–ї –Є —А–µ—Б—Г—А—Б–Њ–≤ –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –і–ї—П —А–Њ—Б—В–∞ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є –љ–µ —Е–≤–∞—В–Є—В—М, –њ–Њ—В–µ–љ—Ж–Є–∞–ї –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –Ї–Њ–љ–µ—З–µ–љ. –Р –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —А–Њ—Б—В–Њ–Љ —Г–є–і—С—В –Є —Б—З–∞—Б—В—М–µ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–Њ–≥–∞—В—Л–µ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞—О—В –ґ–Є–Ј–љ—М —Б–∞–Љ–Њ—Г–±–Є–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –Њ–љ–Є –≤—Л—А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–є "–Ї–∞–ї–µ–є–і–Њ—Б–Ї–Њ–њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–є" –±—Л—Б—В—А–µ–µ, —З–µ–Љ —Б—Г–Љ–µ–ї–Є —Г–Љ–µ—А–µ—В—М, –∞ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Є–Љ –≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ...
TOS, –∞ –≤—Л –і—Г–Љ–∞–µ—В–µ, —З—В–Њ –і–µ–є—Б–≤—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ "–≤ –≥–Њ–ї–Њ–≤—Г –љ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ"? –Ш–ї–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –µ—Б—В—М –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–Є—З–Є–љ—Л? –Я—А–Њ —В–Њ, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–≤–∞—А–Є—В—М—Б—П –Ј–∞–ґ–Є–≤–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–∞—П —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Г –≤–Њ–і—Л - —Н—В–Њ –≤—Б—С —З–Є—Б—В–∞—П —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –Љ–∞—В–µ—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞...

-

shiseido - –Ю–љ –Ј–і–µ—Б—М –ґ–Є–≤–µ—В...
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 10609
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –І—В —П–љ–≤ 10, 2013 18:11 pm
- –Ю—В–Ї—Г–і–∞: –≥–∞–ї–∞–Ї—В–Є–Ї–∞ –Ь–ї–µ—З–љ—Л–є –Я—Г—В—М
Re: –Ю —Д–Њ—А–і–Є–Ј–Љ–µ –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ.
TOSвДҐ –њ–Є—Б–∞–ї(–∞):frezer –њ–Є—Б–∞–ї(–∞):–Ґ–Њ –µ—Б—В—М —В—Л –Њ–њ—П—В—М –≤–Њ–Ј–≤—С–ї –≥–µ–љ–Њ—В–Є–њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤—Г —Г–≥–ї–∞ –Є —А–∞—Б—В–Њ–њ—В–∞–ї —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ –Ї–∞–Ї —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ? –Х—Б–ї–Є —П –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї.
–Э–µ—В, –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї. –ѓ –ґ–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї: "—А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–Є–Љ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј 1000 –і–µ—В–µ–є, —А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л—Е –Є –≤–Њ—Б–њ–Є—В—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –≤ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л—Е, –Є–і–µ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е", —З—В–Њ–±—Л –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ –≤–ї–Є—П–љ–Є–Є –љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П (–Њ–љ—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞). –Х—Б–ї–Є –Љ—Л –≤ —А–Њ–і–і–Њ–Љ–µ –≤–Њ–Ј—М–Љ—С–Љ 1000 –і–µ—В–µ–є –Є –Є–Ј–Њ–ї–Є—А—Г–µ–Љ –Є—Е –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ–є —Б—А–µ–і–µ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –≤—А–Њ–ґ–і—С–љ–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –±—Г–і—Г—В –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –У–∞—Г—Б—Б–∞ –Є –Љ–Њ–≥—Г—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—В—М—Б—П –њ–Њ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–Љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ (—В–∞–Ї–Є–Љ –Ї–∞–Ї –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В) –≤ –і–µ—Б—П—В–Ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ —В—Л—Б—П—З–Є —А–∞–Ј. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–±—С–љ–Ї—Г –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Њ–±—Г—З–µ–љ–Є—П –і–∞—С—В—Б—П –Є–≥—А–∞—О—З–Є, –і—А—Г–≥–Њ–є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ—Б–≤–Њ–Є—В—М –љ–µ —Б–Љ–Њ–ґ–µ—В –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Ґ.–µ. –і–∞–ґ–µ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Є–і–µ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ, –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤—И–µ–Љ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ—Л–µ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Л–µ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–≤, –±—Г–і–µ—В —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ (—В–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Б—Г—А–Њ–≤–∞—П –њ—А–∞–≤–і–∞ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –љ–µ –Њ—Б–Љ–µ–ї–Є—В—Б—П –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В—М –ї—О–±–Њ–є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї –≤ –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Љ —Г–Љ–µ), –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г —Г–ґ–µ –≤–Њ 2-3 –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–љ–Є–Є –Њ–љ–Њ –≤–Њ–њ–ї–Њ—В–Є—В—Б—П –≤ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ.
–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Њ–љ—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞, —В–Њ –Њ–љ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Є–≥—А–∞–µ—В –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –њ—А–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є. –§–µ–љ–Њ—В–Є–њ = –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞ + –≤–љ–µ—И–љ–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л (–Њ–љ—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј, –≤—Б—П–Ї–Њ-—А–∞–Ј–љ–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П). –Э–Њ —В–≤–Њ–Є —Б—В–∞—А—В–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Њ–є –Є –µ—Б–ї–Є —Г —В–µ–±—П —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –љ–Є–Ј–Ї–Є–є –Є–љ—В–µ–ї–ї–µ–Ї—В, –≤—Л—В—П–љ—Г—В—М —В–µ–±—П –≤—Л—И–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П –±—Г–і–µ—В –љ–µ –њ–Њ–і —Б–Є–ї—Г –і–∞–ґ–µ —Б–∞–Љ—Л–Љ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ.
–У–ї–∞–≤–љ–∞—П –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–µ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ –љ—С–Љ –Њ–і–Є–љ –Є–Љ–µ–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ –±–ї–∞–≥, —З–µ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–є, –љ–Њ –≤ —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–љ–Є—П —Н—В–Є–Љ–Є –±–ї–∞–≥–∞–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї, –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ –±–µ—Б—В–∞–ї–∞–љ–љ—Л–є —А–µ–±—С–љ–Њ–Ї –Є–Ј –±–Њ–≥–∞—В–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є –±—Г–і–µ—В –љ–∞–і–µ–ї—С–љ –Є–Љ–Є —Г–ґ–µ —Б —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П, –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤–Њ–≥–Њ —А–µ–±—С–љ–Ї–∞ –Є–Ј —А–∞–±–Њ—З–µ–є —Б–µ–Љ—М–Є.
–Я—А–Є–љ—П—В–Њ, –љ–Њ —Б –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Ї–∞–Љ–Є - –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є –њ—А–Њ –Љ—Г—В–∞—Ж–Є–Є –Є —В–∞–Ї–Є —В—Л —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Њ—В–≤–ї–µ—З—С–љ–љ—Г—О –Њ—В –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ–Њ–і–µ–ї—М ( –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≤–Њ–Ј–≤–µ–і—С–љ –≤ –љ–µ—З—В–Њ —Б–≤–µ—А—Е —Г–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Є–і–µ–љ—В–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є - –њ—А–Њ–±–ї–∞ –≤ –ї—О–і—П—Е –Є –Є—Е –Є–љ–∞–Ї–Њ–≤–Њ—Б—В–Є –Њ–њ—П—В—М –≤—Л–ї–µ–Ј–µ—В) –љ–Њ –Є –њ–Њ —Н—В–Њ–є –Љ–Њ–і–µ–ї–Є —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М ( –ї–Є—З–љ–Њ –Љ–љ–µ —Г–ґ —В–Њ—З–љ–Њ) –Ї–∞–Ї–Њ–µ —В—Г—В –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –≥–ї–Њ–±–∞–ї—М–љ–Њ–µ –љ–µ—А–∞–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ - —В—Л –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –≤ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ—Г—О —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –Ї–∞–Ї –њ—А–Є–Љ–µ—А, —В–∞–Ї –Љ—Л —Г–ґ–µ —Б —В–Њ–±–Њ–є —В—С—А–ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ—В —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –Ї–∞–Ї–Њ–є –ї–Є–±–Њ –њ—А–µ–≤–∞–ї–Є—А—Г—О—Й–µ–є —А–Њ–ї–Є –Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –і—А—Г–≥–Њ–є - –њ–Њ–ї–љ–∞—П –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј—М –Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М. –Э—Г –Њ–±–љ–Њ–µ—В—Б—П —В–≤–Њ–є –≤–µ–і—Г—Й–Є–є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А —А–∞–±–Њ—В–∞—П –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ —А–∞–±–Њ—З–Є–Љ –Є –±—Г–і–µ—В –≤—Л–і—Л—Е–∞—В—М—Б—П –Ї–∞–Ї –Љ–Њ—А–∞–ї—М–љ–Њ, —В–∞–Ї –Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є - –љ—Г –љ–µ –µ–≥–Њ –ґ–µ —Н—В–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–µ –Ї—А—Г—В–Є ( –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–њ–µ—А–Љ–µ–љ–Њ–≤ –≤—Б–µ—Ж–µ–ї–Њ –Є –≤–Њ –≤—Б—С–Љ –њ—А–Є—А–Њ–і–∞ —З—С—В –љ–µ —Б–Њ—В–≤–Њ—А–Є–ї–∞ - –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ–і–љ–Є –і–µ—П—В–µ–ї–Є –µ–≤–≥–µ–љ–Є–Ї–Њ–є –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П...)! –Ш –љ–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є –њ—А–Њ—Б—В—Г—О –≤–µ—Й—М - —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –љ—Г–ґ–µ–љ –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А –Є –і–∞–ї–µ–µ, –љ–Њ –Њ–љ –ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–±—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –Є –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Љ–Є–Ј–µ—А–Њ–Љ, –љ—Г —В–∞–Ї –≤–Њ—В —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є–ї–∞—Б—М –Є –≤–Њ—Б–њ–µ–≤–∞—В—М —Б—Г–њ–µ—А —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞ –Ї–∞–Ї –≤–µ—А—И–Є–љ—Г —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П —Н–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—В—П–љ—Г—В–Њ. –Я—А–Њ—Б—В–Њ –ї—О–і–Є —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –љ–∞–±–Њ—А–Њ–Љ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤ –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –Ј–≤–µ–љ—М–µ–≤ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є - —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–Є. –Т—Б—С –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ—Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ.
–Р —В–∞–Ї —П —В–µ–њ–µ—А—М —В–µ–±—П –њ–Њ–љ—П–ї –Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Б–µ–±–µ –і–∞–ґ–µ. –Э–Њ —В–∞–Ї–Є –љ–µ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–є—Б—П –Њ—В–≤–ї–µ—З—С–љ–љ–Њ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–µ–є –Ї–∞–Ї –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –Љ–µ—А–Є–ї–∞ –і–ї—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞. –Ю–љ–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б—В–Њ—А–Њ–љ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л, –і–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –≤–µ—Б–Њ–Љ—Г—О, –љ–Њ –љ–µ –≤—Б–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—О—Й—Г—О. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А—П–Љ–Њ—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є—А–Њ–і—Л.
–Т—Б—С —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–ї –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ, –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ.
-

frezer - –°—Г–њ–µ—А –Ѓ–Ј–µ—А
- –°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П: 1146
- –Ч–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ: –Я–љ –Љ–∞–є 21, 2007 12:57 pm
- –Ю—В–Ї—Г–і–∞: –Ф–Љ–Є—В—А–Њ–≤
–°–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–є: 11
• –°—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ 1 –Є–Ј 1
–Т–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –°–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ - –§–ї–µ–є–Љ
–Ъ—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є
–°–µ–є—З–∞—Б —Н—В–Њ—В —Д–Њ—А—Г–Љ –њ—А–Њ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В: –љ–µ—В –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –≥–Њ—Б—В–Є: 0