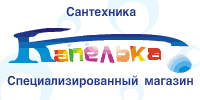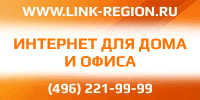Забастовочная борьба, начатая в мае рабочими угледобывающей отрасли, подобно весеннему половодью разлилась по стране. В нее стали включаться и другие отряды пролетариата: автотранспортники, машиностроители, нефтяники - все, кто месяцами не получает заработанного, кого наиболее жестоко угнетает капитал, нагло обосновавшийся на кремлевском холме.
Долготерпение российского рабочего изумляло «просвещенный Запад». Без большого шума этот рабочий соглашался «вкалывать» на обветшавшем, опасном оборудовании, в условиях, прямо угрожающих жизни, и получать за это зарплату, которую даже в тропической Африке посчитали бы нищенской, зарплату, которую часто выдавали даже не деньгами, а талонами в хозяйскую лавку, где гнилой товар предлагался втридорога. Этот невиданный прежде рабочий молча смотрел, как в угоду иностранным конкурентам исчезали его рабочие места, и под согласный хор буржуазной пропаганды – мол, «крутиться» надо, устраиваться, приспосабливаться, а не «завидовать» преуспевающим спекулянтам, тем паче вспоминать, что такое «классовая борьба» - покорно менял место у станка и в забое на сомнительную профессию разносчика дешевой чепухи в пригородных электричках или зарывался «по ноздри» в землю на своих сотках картофельного поля.
Всему, однако, есть свой предел. Буржуазия, усыпленная такой безропотностью, «перегнула палку». В основных угледобывающих районах страны, там, где задолженность по зарплате перевалила за 7-11 месяцев, а продукты со своего огорода к весне доелись подчистую, там, где здоровые мужики были вынуждены постоянно обращаться к помощи нищенских пенсий стариков, где бесконечные увещевания власти «красных губернаторов» «потерпеть» особенно навязли в зубах, вспыхнул неизбежный бунт. Либеральные литераторы особенно часто любят цитировать слова о «русском бунте, бессмысленном и беспощадном...», с кровью выдирая часть строки Пушкина из его истории Пугачевщины, Не вдаваясь в спор, что же имел в виду поэт в том конкретном случае и мог ли он характеризовать иначе народное восстание в цензуруемой печати, вслед за небезызвестным Коровьевым скажем любителям подобных характеристик своего народа: «Поздравляем вас, гражданин, совравши».
Несмотря на то, что подъем рабочего движения был фактически стихийным, хаоса и уголовщины он не принес. Напротив, действия рабочих отрядов направлены были, прежде всего, на обеспечение порядка. Одной из первых мер зачастую становилось пресечение продажи спиртного. Забасткомы и Комитеты спасения скорее можно упрекнуть в преувеличенной заботе о праве частной собственности. Ниоткуда еще не поступило сведений о конфискации запасов продовольствия и денежных сумм. Всю свою деятельность новое рабочее движение sue еще старается втиснуть в прокрустово ложе буржуазной законности. Этим только и можно объяснить характер акций протеста, которые предпринимали поднявшиеся на борьбу рабочие.
Последние несколько лет беспрерывного промышленного спада показали трудящимся недостаточную эффективность такой традиционной формы борьбы, как забастовка.
Голодовки протеста, самоубийства и прочие мазохистские методы борьбы власть имущих беспокоили еще меньше, чем забастовки на остановившихся заводах. Пресса все это научилась преподносить в разделах, помещаемых между описаниями похождений очередного кровавого маньяка и сексуальными скандалами звезд шоу-бизнеса. Стиснутое с одной стороны рамками «ненасильственной борьбы», с другой - явной бессмысленностью только забастовочных действий, рабочее восстание выплеснулось на рельсы железных дорог и автотрассы.
Направление удара инстинктивно выбрано было верно. Даже в начале века, как писал один из вождей революционной борьбы, «..только железные дороги превращали огромную евроазиатскую равнину в империю царей». Значение путей сообщения с тех пор не убавилось, но многократно возросло. Даже краткосрочные блокады основных железнодорожных трасс, таких как Транссиб или Москва-Ленинград-Хельсинки вызывают параличи грузопотоков и миллиардные убытки. Поэтому власти, столкнувшись с такой формой борьбы, как правило, стремились скорее ликвидировать инцидент и шли навстречу требованиям бастующих.
Конечно, все ограничивалось сиюминутными подачками и полумерами, но голодные, политически неуправляемые рабочие рады бывали и этому. В этот же раз все вышло не так мирно, как прежде. Мировой финансовый кризис и падение цен на нефть больно ударили по бюджету России, крепко пристегнутой к всемирному империалистическому рынку. Попытки в очередной раз реструктурировать внешнюю задолженность ни к чему не привели, и перед полуобморочной экономикой России явилась перспектива изыскивания миллиардов долларов для заокеанских кредиторов. Говоря словами попугая г-на Лившица: «Денег нет!». Здесь, правда, надо сделать уточнение: денег не стало в традиционных источниках, где правительство привыкло их черпать - экспортных отраслях и внешних займах: в то же время среди имущего класса по-прежнему бьют фонтаны безумной роскоши и расточительства, но почерпнуть оттуда и малую толику власть не желает и не может. Только что сформированное правительство Кириенко, сходу угодило в «пиковое положение» С одной стороны дырявые карманы бюджета, которому опять не миновать малоприятной операции обрезания, с другой - неожиданное (или долгожданное, кому как нравится) восстание рабочих. Проблемы эти за г-на Кириенко решать нет ни малейшей охоты, но кое-какие действия властей уже обозначены. Во-первых это спешное перетаскивание дырявого бюджетного плаща. На восставшие регионы уже пролились жидкие субвенции и трансферты вперемешку с обильными (и невыполнимыми, очевидно) обещаниями.
Но тут правительство само себя загоняет в ловушку. Как бы ни неопытны в борьбе были рабочие, они все-таки соображают, что деньги, раздаваемые бастующим, изымаются из тех регионов, которые еще в стачку не включились Выражаясь образно: бастуешь, перекрываешь дороги - получаешь зарплату, продолжаешь покорно трудиться - получаешь шиш. Именно эти соображения, скорее всего, и придали майской стачке лавинообразный характер. Поэтому в речах правительства зазвучали грозные нотки. Забастовщикам стали угрожать судебным преследованием. Главный же прием, используемый властью -попытка натравить отдельные отряды трудящихся друг на друга Здесь центр приложения пропагандистских усилий - рекламирование колоссальных убытков, которые несет железнодорожное ведомство в результате транспортной блокады. По центральному телевидению неоднократно показывали плачущую тетку в форме проводницы, которая горько жаловалась, что вот теперь из-за этих шахтеров она не получит зарплаты. Эффект от путейских слез был бы значительно меньшим, если бык нему был подмонтирован сюжет со столичной биржи. Здесь, в тот же день, что и заявления о железнодорожных убытках, за которые забастовщикам грозят ответственностью, было оглашено решение Центробанка а подъеме ставки рефинансирования до 50%.
Надо сказать, мало кто из законопослушных граждан осведомлен, что экономика нынешний России, подобно цирковому жонглеру, балансирует на чудовищной пирамиде внутренней задолженности. Для безинфляционного обеспечения своих текущих потребностей в деньгах правительство наводнило финансовый рынок так называемыми государственными краткосрочными обязательствами (ГКО), то есть векселями, по которым тратят богатые, а расплачиваются все остальные Держателями этих векселей являются крупные банки.
Чтобы удержать банкиров от соблазна выкинуть горы ГКО на рынок, им предполагают чудовищный ссудный процент В бюджете 1998 года этот процент был определен в 20% и все равно для его выплаты была назначена третья часть всех поступлений в казну Теперь же из-за финансового хаоса этот процент вздут до 50%. Банкиры, не ударяя пальца о палец, на вложенный рубль получают 50 копеек прибыли. Вот откуда то «море разливанное» благосостояния которое затопляет Москву и позволяет при всеобщем обнищании воздвигать двадцатиметровые статуи и «храмы на крови» размером со средний небоскреб. Беда в том, что скудоумная политическая верхушка, стоящая одной ногой за рубежом и привыкшая рассматривать «эту страну» как свою законную добычу, неспособна и на йоту поступиться своими привилегиями и, подобно злополучной обезьяне из анекдота, разжать застрявший в кувшине кулак с орехами, когда слышны шаги приближающегося охотника. Меры, приемлемые в данной ситуации, вроде закрытия биржи и замораживания внутреннего долга, не только не принимаются правительством, но даже не предлагаются и хваленой «конструктивно-непримиримой» оппозицией, хотя в них нет и атома коммунизма. Похоже, что если рабочее движение само по себе не заглохнет под усыпляющее бормотание правительственных СМИ, «народно-патриотических» губернаторов и ФНПРовской верхушки, нас ожидают интересные события в духе албано-индонезийского решения проблемы. Интересно, будут ли и тогда плакать только железнодорожницы или заплачут уже и банкиры?
Ю.Клочков,
«Рабочий листок», номер за май-июнь 1998 года
Старенькая познавательная статья
КОГДА ЗАПЛАЧУТ БАНКИРЫ?
Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
Этоже начало дефолта... с исторической точки зрения действительно познавательно...учитывая то что случилось потом
Russian Railways Forever! 
-

Garikk - Здесь живет давно...
- Сообщения: 4776
- Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2004 22:06 pm
- Откуда: Параллельная вселенная
А что случилось потом? Что изменилось? Ну, несколько попали считавшие себя средним классом. Пусть их. Их не много, на баррикады не пойдут - некогда, надо потерянное отбивать. Банкиры не плакали и до, и во время, и после... Разве что теперь на всю катушку не плачут немного другие банкиры. Однако, нельзя сказать, что и прежние сильно страдают. А зарплата железнодорожницы в товарном выражении сильно не изменилась. Значит, железнодорожницу тоже все устраивает?
-

Perez_Rocoto - chicano
- Сообщения: 2768
- Зарегистрирован: Сб апр 30, 2005 1:13 am
Сообщений: 4
• Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0